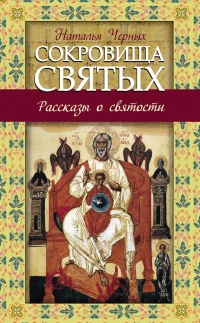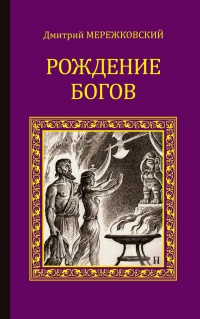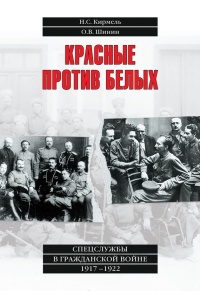и вскормленники черниговской дружины хмуро вытирали кровь с лиц, досадливо морщась, растирали ушибленные места.
Расправив крутые плечи, Ратша горделиво глянул в высокое оконце на верхнем жиле терема. Там виднелась белокурая головка юной красавицы Миланы. Маленькая рука приветливо махнула ему шёлковым платочком.
С шумом раскрылись провозные ворота. Во двор въехал в нарядной свите боярин Яровит. Не спеша спустился с седла, передал поводья одному из гридников, только что «сражённому» Ратшей.
— А что, боярин! Давай с тобою биться! — задорно выкрикнул Ратша. — Не деревянными мечами — харалужными, вострыми! До крови!
В дружине не любили Яровита, его считали человеком умным, но хитрым и далёким от прямоты и искренности. Никогда Яровит не участвовал в их поединках, не гремел железом, не хвалился попусту. Никто не видел его ни на рати, ни на охоте, только в думе княжеской он выделялся и всегда был готов дать дельный совет. Бояре презирали его как выскочку, невестимо какими путями добравшегося до богатства и власти. Да и сам князь Святослав, похоже, не особенно жаловал Яровита, хотя и старался с виду ничем не показать своего недоброжелательства. Но Яровит, немало повидавший на своём веку, проведший месяцы и даже годы в трудных посольских поездках, видевший Эстергом[202] и Прагу, Роскильду[203] и Сигтуну[204], Сауран и Сыгнак, Царьград и Охриду[205], встречавший разных людей и познавший разноличную иноземную молвь, всё подмечал и втайне досадовал.
Чересчур распустил Святослав свою дружину. Слов нет, люди у него храбрые, смелые — такие любому князю завсегда надобны, только вот заносчивы они, спесивы сверх всякой меры. Взять хотя бы этого Ратшу.
— Ну, чего молчишь? — смеялся раскрасневшийся молодец. Подбоченясь, он нагло взирал на холодного Яровита.
— Сором мне с тобой тут, — спокойно ответил боярин. — Чем похвальбой безмерной забавляться да попусту кулаками махать, каким добрым бы делом занялся.
— А что, Яровит, дело ратное — не доброе? — с издёвкой спросил пожилой седатый дружинник Воеслав.
Облачённый в дощатую бронь, он держал в руке сверкающий на солнце булатный шишак.
— Доброе, — кивнул Яровит. Боярин старался не отвечать на колкие насмешки. — Только вот кичиться своей силой — глупо и соромно.
— То ты баишь, пото как ни за что Ратшу не одолеешь! — раздался в толпе дружинников крик.
— И верно. Ты, Яровит, всех учишь — сором, не сором! — шумно поддержал Воеслав. — А как биться надоть будет — тя и не видать, ты — последний! Сече доброй уговоры разноличные да лукавства предпочитаешь!
Яровит досадливо махнул рукой. Совсем не хотелось слушать этих хвастунов и крикунов.
— Кровь лить не любо мне, — сквозь зубы бросил он в смеющиеся самодовольные лица.
Он поднялся по каменным ступеням всхода; услышав громкие женские голоса, невольно глянул ввысь.
У большого стрельчатого окна стояли несколько боярских дочерей. Девушки, видно, с живостью обсуждали недавний бой и, смеясь, перемигивались с гриднями.
Рядом с белолицей Миланой выделялась рослая дочь Воеслава — Роксана. Яровит залюбовался писаной красавицей в нарядном саяне тонкого сукна с серебряными пуговицами. На плечи девушки наброшен был голубой расшитый плат с огненными петухами, в прямых русых волосах блестели жемчужные заколки. Серые глаза молодицы горели, как показалось боярину, неким затаённым лукавством, а чуть припухлые губы, напротив, придавали её лицу выражение простодушия. В маленьких ушках сверкали крупные золотые серьги, носик у девушки был твёрд, прям и тонок.
Боярин одёрнул себя: непристойно. Роксана сосватана за Глеба, старшего сына князя Святослава. И зачем князь потакает страсти сына?! Не срам ли, не позор?! Издревле брали князи в жёны иноземных царевен или княжеских же дочерей. Неужели Святослав хочет иметь сватом вот этого ржущего как лошадь, языкастого грубого Воеслава?!
Яровит презрительно передёрнул плечами.
Князь сожидал его в горнице. Он только что вкусил крепкого мёду и чувствовал, как по телу растекается приятное тепло. Вытерев перстом широкие рыжие усы, Святослав неодобрительно уставился на боярина.
— Что тамо опять стряслось, Яровит? — спросил он недовольно.
— Племянник ко мне днесь[206] приехал, сестрич. На дороге подобрали его монахи. Те, которые книги тебе привезли.
— Монахи! — Святослав поморщился. — Евнуха сего, Никиту, гнать я велел взашей. Не терплю лукавую енту породу. Жаль, Иаков тож осерчал. Он, бают, учёный вельми, у брата Всеволода сына грамоте обучает да наукам разноличным.
— О том тоже сказать хочу. — Князю Яровит никогда не льстил и всегда говорил ему в глаза то, что думал. Зря упрекали его бояре в лукавстве — лукав он бывал только, когда требовали того дела.
— Не надо было так поступать с Никитой. Помни, княже: евнухи злопамятны. Люди ущербные таят в душе зло, жестоки ко всем, мстительны, безжалостны. Готовы любого считать виновным в своих несчастьях.
— Да пошёл он! — Святослав смачно выругался. — Нечисть всякая! Развёл Всеволод у ся в Переяславле всякую мразь! Тьфу! Голос-от, яко у бабы!
— Никита — не переяславский инок, киевский. С монастыря Печерского.
Святослав задумался, почесал пятернёй затылок. Громко ударив ладонью по крытому белой скатертью столу, с досадой заключил:
— Прав ты, Яровит! Зови его заутре на пир! Передай, князь кличет... Киевский... Ха! Киевский! — В серых, слегка подёрнутых синевой глазах Святослава засветилась какая-то затаённая мысль. — Отмолви-ка, боярин. Слыхал ли ты, будто в Киеве простолюдины недовольны?
— Да, княже. Подол бурлит. Поборы велики. Жиды-ростовщики великие резы[207] берут, кабалят людинов, в закупы обращают. А за жидами теми, говорят, тысяцкий[208] Коснячок, он через них гривны[209] и куны свои в долг даёт. Но, думаю, найдутся в Киеве разумные головы — уймут народ, успокоят, сбавят резы.
— То как знать, как знать, Яровит. — Святослав вдруг рассмеялся. — Да ладно. Что ты тамо про племянника свово?
— Наладить хочу сторожу в степь. В станы бы людей послать.
— Енто ещё зачем?! — удивлённо вскинул брови Святослав.
— Может, сестра моя жива, в полон попала. Или кто из детей её.
— Ах, тако.
— Да вот незадача: мало кто их в лицо знает. Придётся, видно, самому ехать, и племянника с собою брать. Дал бы гридней в подмогу.
— Езжай, коли головы своей не жалко. — Святослав равнодушно пожал плечами. — С половцами живём ноне ратно. А гридней не дам — самому надобны.
Он не заметил на мгновение полыхнувшей во взгляде Яровита