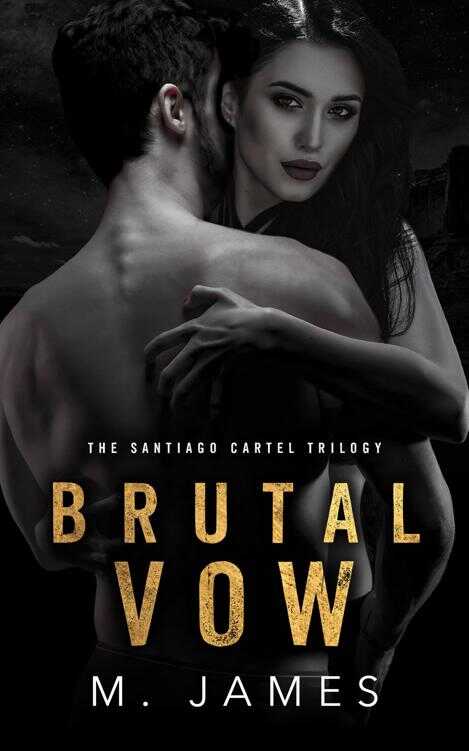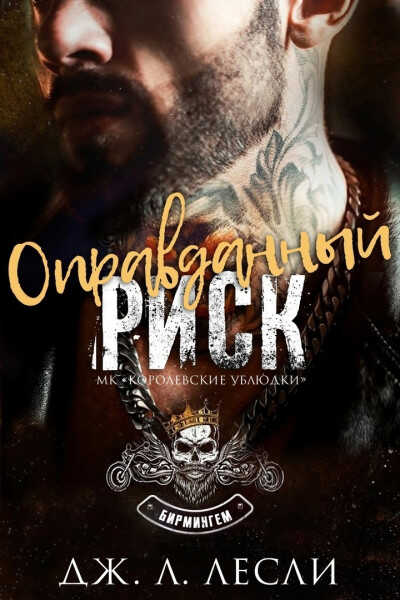вздохнул:
— Хочу, чтобы ты чувства испытывала. Сильные. Но после стрелы в сердце ты перестала пугаться, как раньше.
Ещё и жалуется, сцобака, ты посмотри. А пугаться, как раньше, и правда перестала. Ко всему привыкает человек, к чудесам и ужасам тоже. Но этот тип — я верила, что при некоторой настойчивости он может освежить мою чувствительность, чего не хотелось. Как-то он детишек с даром учить будет, он же их до икоты запугает в педагогических целях? Вот любопытно, он со всеми женщинами таков был? — думала, а сама в лицо смотрела. На мысли о женщинах оно стало очень замкнутым, и я поняла, что он никогда и ничего не расскажет.
Досадливо дрогнул:
— Да не до них мне было, богиня. Во всяком случае, после первого тысячелетия. Магия звала, и целибат был тяжел, но и воздаяние за жертву было велико. Но до того — не скажу, что пользовался успехом. Эллет ищут любовь, страсть или хотя бы искусство, а я… увлекался иными искусствами. И поверь, никто тут не мечтал сбить меня с пути воздержания.
Пристыжённо опустила глаза. Мне тихохонько об этом думалось с тех пор, как увидела, что уж себе-то врать. Эллет и правда то ли балованы чище меня, то ли приоритеты совсем иные.
— Что-то не рвёшься ты меня растлять, божественная, — он подшучивал, легко и беззлобно, — на шее не виснешь, бонбоньерки не даришь. Уверен, если бы я пытался тебя увлечь и разогреть нарочитым сопротивлением, то преуспел бы только в последнем.
Вспыхнула, поняв, о чём он. Ну да, когда в чужой голове копаешься, много что увидеть можно. Невеликая, поди, радость.
— Ну как сказать, — сквозь зубы, завистливо.
Он как-то затуманился, и до меня дошло, что Глоренлин, конечно, отшельничал, но он не слеп, не глух и мысли читает, и сравнивает себя с прочими: с владыкой, который как раз любовными искусствами не пренебрегал, и с Лисефиэлем, который и вовсе, скажем так, профессионал. Неудивительно, что хочет воздействовать не поцелуями, на них особо не рассчитывая. Алиен среди алиенов, и ухаживает-то как чудовище.
Вспомнилось, что коллеги Майю Плисецкую с недоумением спрашивали, как она могла выйти замуж за композитора Щедрина, ведь разве можно спать с человеком, у которого в голове только музыка? На что Плисецкая буркнула, что очень даже можно.
С музыкой, то есть с магией в голове у консорта моего всё хорошо, тут сомнений не было. А всё остальное… Вот одежду взять — сапоги новые модные, штаны при этом крепко ношеные, рубашка с разодранным воротом (почти всегда разодранным, где он их рвёт?), ещё и травинкой зашнурована. И при этом магическая ювелирка в товарных количествах на пальцах, на запястьях, на шее, на поясе.
Некрасивый для эльфа и приятно похожий на человека живостью лица, и тайное внутреннее пламя, делающее его таким живым — ну сказочное же существо. Богиня урвала себе лучшее.
— Я рад, что богиня так считает, — похоже, рад, но скрыл под показным недовольством. И, с уже откровенной печалью: — Тебе не нравятся мои подарки. Они ужасны? Я… так люблю и не знаю, как иначе…
Откровенно (всё равно в голове подсмотрит) ответила:
— Они ужасные. Но лестные. И твой подарок, Нурарихён, мне жизнь спас.
— А твой мне вернул её радость, — и, на удивлённый взгляд: — Я бы постарался не умереть. Но жизнь была горечью и гнилью.
А, ну да. Это он про то, что консортом стал.
Он вдруг оказался близко, подал руку. Подумала, что и вправду нечего лежать, раз проснулась, к тому же хочется сходить туда и сюда, сполоснуться… дала себя вытащить из тёплого кокона одеяла. И тут же оказалась прижатой животом к перилам, а он шептал, уже нагибая:
— Не могу больше. Я был нежен и сдержан в первый раз, но это было трудно. Я всего лишь мужчина, — прижал сильнее, грубо закинул подол рубашки почти на голову, и тут же вошёл одним пальцем, осторожно, но глубоко, и замер, чуть ли не обречённо: — Готова. Тугая, но выдержишь. Прости, — и толкнулся.
С толчка войти не получилось, но он не остановился, мелкими частыми ударами загоняя себя внутрь. Удерживал сильно. Я не сопротивлялась, но он, кажется, поплыл и не понимал:
— Я консорт, я хочу этого, — вошёл и выгнулся, задрожал, схватился за перила, те жалобно скрипнули. Тихо напряжённо сказал, как будто сам себя уговаривал: — Нет, не сразу… надо немного переждать, — а дышал уже часто и неровно, но справился.
Зашептал, наклонившись к уху:
— Я мечтал насытиться крепкими толчками, не жалея, — начал двигаться, немного неловко из-за тесноты и зажатости, но вдруг стал мокрым и заскользил легко. Сначала было подумала, что он всё-таки кончил, но нет, просто намок от возбуждения.
Беспомощно застонал, участился — мне показалось, он сейчас сорвётся, но снова выдержал и вошёл наконец в ритм.
Монотонные сильные удары, от которых жалко скрипело дерево перил, заставляли терять дыхание. Отстранённо думалось, что деревяшки не выдержат, и мы полетим вниз.
Перила и правда рассыпались, но он как-то удержался и удержал меня, и мы какое-то время балансировали над темнотой провала чёрт-те куда.
— Ты так сладко боишься, — толкнул грудью на стол, и, не обращая внимания на злое рычание, продолжил двигаться, — и злишься.
Остановился, почти вышел и задумчиво так спросил:
— А ведь для твоего удовольствия много не надо, достаточно было бы и большого пальца, да? — несколько ритмичных, небыстрых и неглубоких толчков, и мне и правда хватило, он просто нашёл нужную точку.
Захорошело — и злило, что он и в такой момент сохранил насмешливость. Сам меня боится, а форс держит.
Нежной паузой и расслабленностью тела он воспользовался, чтобы вогнать наконец на всю длину, а там было длинно. Стол, вроде бы мощный, тоже начал поскрипывать и жаловаться на жизнь, и я поняла, что слова про нежность и сдержанность в первый раз пустыми не были.
Нет, я была очень даже небезучастна, но побаивалась, что мы столом можем не выдержать такого напора. Да как же шаман воздержание это своё выносил? Хотя, может, как раз поэтому и сорвало крышечку-то… Он останавливался иногда, выходил почти — так, чтобы упираться туда, куда нужно, и я снова кончала за три секунды, а он врывался и продолжал, и становился всё горячее. Попросила пощады, но он попросил её в ответ — ведь я так долго была дождём для него, так пусть побуду солнцем. В голосе была такая мольба и надежда, что охота сопротивляться пропала.
И пощады он не дал.