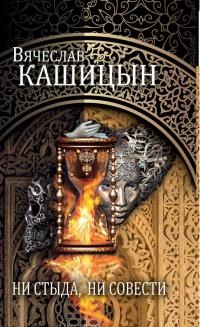Он не пришел в суд, когда там был Родди. Это было в первое утро. Остальные пришли — бабушка, и отец, и Эд Конрад, конечно, а Майк не пришел.
Родди отвезли туда в фургоне с другими заключенными и охранниками; наверное, это были полицейские. Разговоров особых не было. Он никого из них не знал. Суд, где он раньше никогда не был, рядом с местной администрацией, похож на обыкновенное государственное учреждение, только третий этаж, куда его привели, разделен на два больших судебных зала и несколько маленьких комнат. Он видел в одной из них своего адвоката с какими-то мужчинами и несколькими женщинами, они все смеялись.
На стенах висели большие мрачные портреты, — наверное, умерших судей. Одни мужчины. Родди подумал, не лучше ли ему будет, если судьей будет женщина, например как его бабушка. Но женщина-судья, скорее всего, будет похожа на ту женщину на пороге «Кафе Голди». Ей он совсем не понравится. Мужчина, наверное, лучше поймет, как все случайно и непоправимо меняется за пару секунд. Хотя бы как может случиться что-то, чего ты совсем не хотел.
И что он очень жалеет об этом. Это считается?
На самом деле ничего не считалось, и даже судьи не было, просто какой-то мужик, мировой судья, и суд был ненастоящий, а так, только про содержание под стражей и освобождение под залог. Отец и бабушка сидели во втором ряду, глаз с него не сводили. Вид у них был такой, как будто они всю ночь не спали, какие-то осунувшиеся и серые. Может, сидели на кухне, все думали и думали, что они сделали не так. Родди очень хотел бы сказать им, что они все делали правильно, просто все пошло не так. «Какого хрена?» — говорили они с Майком, в том смысле, что кому какое дело, что они сделали, хорошо это, плохо или так себе? В таком большом мире, где все может быть, или в крошечном городке, где вообще ничего быть не может. И это «какого хрена?» делало их почти невидимыми, бесплотными и свободными.
Они ошибались, и вот как получилось с Родди, и «какого хрена?» не скажешь.
В суде все делалось быстро, одно дело за другим, один обвиняемый за другим, бум-бум, взлом, драка, вождение в нетрезвом виде. Когда дошла очередь до Родди, секретарь, или кто-то там, зачитал обвинения — покушение на убийство, вооруженное ограбление. И его адвокат вздохнул и сказал:
— Мы понимаем, что это очень серьезно, но у моего клиента прежде не было проблем с законом. Ему всего семнадцать, и его родственники могут гарантировать его явку на следующее слушание дела и примерное поведение, а также выполнение любых постановлений суда в случае освобождения под залог.
На мгновение Родди захотел заговорить сам. Он хотел поклясться, что, честное слово, даже из своей комнаты не выйдет, если его сейчас отпустят домой. Никому снаружи не придется из-за него беспокоиться, все будет в порядке. Но он, конечно, промолчал. Конечно, его не отпустят домой. Не место ему дома.
— В освобождении под залог отказано, — сухо сказал мировой судья и назначил слушание через неделю.
И все. И ладно. Он, правда, хотел что-нибудь сказать бабушке и отцу. Но они стояли в другом конце зала, и все, что ему пришло в голову, это подмигнуть им — глупо, как будто он не понимает, что натворил. Похоже, он самое важное делает не так. Он думал, что, может быть, все хотят, чтобы он умер, чтобы его на свете не было — невелика потеря.
Может, кто-нибудь из детей этой женщины (Эд Конрад сказал, их у нее двое) убьет его в суде в следующий раз. Так бывает, он по телевизору видел. Все будет быстро и неожиданно, и он от всего освободится, даже не заметив, как это вышло.
Родди пришлось собраться с духом, чтобы спросить Эда Конрада:
— А та женщина?
Он только знал, что она жива, потому что обвинение было в покушении на убийство, а не в убийстве.
Адвокат вздохнул. Он вообще много вздыхает, хотя Родди с ним не так давно знаком.
— Она в больнице, пробудет там еще долго. Ты не знал, что она парализована? Очень меткий выстрел для того, кто, если ему верить, ружья в руках не держал.
Парализована. Блин. Он даже как-то не отреагировал на презрение в голосе Эда Конрада. Даже его собственному адвокату противно на него смотреть. Что говорить о ее семье.
И о его собственной.
И это он сделал? Он, который ничего серьезного или важного за всю свою жизнь не сделал, причина всего этого? Сколько раз он, когда был маленький, мечтал, что станет кем-нибудь совсем другим, или хотя бы сделает что-то такое, что обычно не происходит в жизни таких, как он. Он представлял себе разные ситуации, в которых мог бы стать героем: например, Майк или какой-нибудь ребенок тонет, а он бросается в воду — бурную, с камнями, — и вытаскивает его на берег. Он хотел быть героем на фотографии в газете, кем-то, кто сделал что-то запоминающееся, заметное, серьезное. Теперь он стал кем-то другим. Сделал нечто запоминающееся, заметное и серьезное. Может, его фотографию напечатали в газетах, он не знает, как в таких случаях бывает. Он к этому не стремился, он совсем не это имел в виду.
День здесь начинается с громкого сигнала подъема, скрежещущего в динамиках на потолке коридора. Родди к тому времени уже просыпался, все три дня. Все кричат, ругаются, шумно встают. Нужно застелить постель, одеться и более-менее привести себя в порядок. Здесь все одеты в коричневые спортивные костюмы. Сложение у Родди совсем не под спортивный костюм. На некоторых они сидят в обтяжку, это выглядит круто, а на Родди костюм висит мешком.
После сигнала у них на все про все минут двадцать. Потом двери камер открываются, всех выстраивают в коридоре и гонят, как стадо — по крайней мере, так себя чувствуешь, — в столовую, где все выстраиваются в очередь за хлопьями или яичницей, тостами, молоком и соком. Как в школе, только выбора нет. В этом здесь вся суть: выбора нет, вообще никакого.
Родди думает, что если те, кто здесь заправляет, хотели бы, чтобы всем было по-настоящему плохо, чтобы все понимали, что с ними происходит, нужно было бы заставить всех оставаться после сигнала в постели. Пусть лежат, думают о бесцветном, тупом дне, который им предстоит, и сами делаются бесцветными и тупыми — хотя бы некоторые. Вот это было бы наказание так наказание. Но может быть, те, кто составляет расписание, думают, что ночь для этого подходит лучше, и в этом тоже есть смысл: каждую ночь Родди подолгу не может заснуть, крутится и ворочается, как будто стоит улечься по-другому, и все волшебным образом переменится. Если бы одну боль можно было заглушить другой, он бы бился головой о стены.
Поэтому его не удивляет, что здесь столько насилия. Ничего особо серьезного он, правда, пока не видел, потому что охрана все время рядом, но то и дело что-то вспыхивает: то двое как будто случайно толкнут третьего, то бильярдный кий пойдет в дело в комнате отдыха, то в душевой кто-нибудь что-нибудь скажет. Воздух полнится раздражением, пахнет им. Дикие животные, наверное, ведут себя так же: постоянно настороже, следят за всеми движениями и запахами. Кролики, которых ему случалось спугнуть. Кроты и сурки, ищущие укрытия под землей. Жабы и насекомые, предусмотрительно сливающиеся с окружающим пейзажем. Только у них это не раздражение, не агрессия, направленная вовне, просто вопрос выживания.