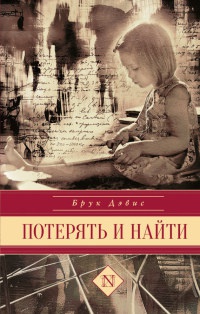А теперь во имя Бога-отца…
Едва проповедь закончилась, как громко зашаркали подошвы, зашуршали молитвенники, зашептали возбужденные голоса. Миссис Исткорт, исполнясь сугубого величия, встала и под охраной своего юного отпрыска, который краснел и ухмылялся от смущения, негодующе засеменила вон из церкви. Сэр Хорес апоплексически багровел от кашля — чтоб этому наглому попу ни дна ни покрышки: читает мораль тем, кто повыше него, и потакает низшим классам! Столпы добродетели обменивались взглядами презрительного осуждения. Джорджи и Алвина недоумевали, но мужественно считали, что проповедь чему-то учит. Мистер Перфлит блаженно хихикал, укрывшись томиком «Кандида», который принес вместо молитвенника.
По завершении службы сэр Хорес, совсем уже фиолетовый, выпучив глаза, ринулся вслед за Каррингтоном в ризницу, и прихожане, замешкавшиеся, чтобы подслушать, вскоре были ублаготворены нарастающими звуками спора. Наконец сэр Хорес вышел из ризницы: цвет лица у него по-прежнему напоминал перезрелую свеклу, но вид был победоносный — мистер Каррингтон объявил о своем намерении отказаться от прихода.
За несколько дней до этого он узнал, что вакансия каноника все еще свободна и ждет его.
Однако скандальная большевистская проповедь и «увольнение» священника (как благоугодно было счесть это Кливу) тотчас увенчались еще более пикантным и интересным эпизодом, почти идеально сочетавшим непристойность с моральным назиданием.
Эпизод этот, в сущности, следовало бы рассматривать, как суровое предупреждение тем, кто поддается соблазну и, проповедуя, толкует Слово Божье слишком уж широко, не считаясь с Мудростью Веков и воспитанием, которое получают ученики закрытых аристократических школ.
В ночь на понедельник Лиззи, обливаясь слезами, точно Ниобея, бежала из дома Смизерсов, оставшись глуха ко всем почти униженным мольбам Джорджи остаться, и с рыданием пала на грудь недоумевающего мистера Джадда, который в растерянности особенно горячо пожалел, что миссис Джадд, плодясь и размножаясь, не ограничилась одними сыновьями.
Воспламененный неверным истолкованием теперь уже прославленной проповеди кузен в тот же вечер прямолинейно, если не сказать грубо, покусился на попачканную добродетель Лиззи. Раз уж, рассудил кузен, теперь даже Церковь чертовски терпима и смотрит сквозь пальцы, как шалая кобылка рвет постромки, так почему бы ей опять их не порвать? Особенно в компании человека аристократических кровей и воспитания, который, разумеется, способен научить девочку тому-сему, о чем деревенские увальни и понятия не имеют. В конце-то концов, крутила же она сразу, черт побери, и с молокососом Страттом и с полицейским! Темпераментная штучка, ничего не скажешь!
И, проникнув на кухню в благоприятный, по его мнению момент, кузен изъявил свою мужскую волю и милость без особых обиняков. К чему всякие экивоки с прислугой? К его изумлению, а затем и парализующему ужасу, Лиззи отразила его поползновения с яростью, которую следует рекомендовать всем прекрасным дамам, буде они попадут в подобное положение. (Он накинулся на нее внезапно, точно бука, которым ее пугали во младенчестве, и Лиззи потеряла голову от страха.) Она расцарапала ему лицо и впилась зубами в подушечку большого пальца — способ обороны не только обескураживающий, но и чрезвычайно болезненный. Затем она стиснула кузена в таких крепких объятиях, что он пошевельнуться не мог и чуть не задохнулся, а сама принялась пронзительно звать на помощь. Кузен вырывался, восклицая:
— Да ну же… черт возьми… какого дья… ты меня… задушишь… говорят тебе… О господи!
Последнее восклицание, продиктованное не столько благочестием, сколько отчаянием, он испустил, когда в кухню влетела Джорджи, следом за которой там появилась Алвина, а в отдалении, прихрамывая, замаячил озадаченный Фред.
— Кузен!
— Кузен!
Его родственницы вложили в эти два слога столько удивления, упрека, брезгливости, презрения, ужаса и осуждения, что кузен почувствовал, как краснеет до корня своего позвоночника. Впоследствии он пожаловался в клубе приятелю, чье сочувствие прятало ехидную насмешку: «Дьявольски неловкое положение, э?» Лиззи внезапно разжала объятия — так внезапно, что кузен еле устоял на ногах, и хлопнулась навзничь на пол, «чуть не в родимчике», как со смаком рассказывала потом миссис Джадд.
— Что тут происходит? — осведомился добравшийся наконец до кухни полковники поспешно отвел взор от некоторого беспорядка в костюме Лиззи, который Джорджи «поправляла» с сестринской заботливостью.
— Что?! — рявкнула Алвина, держась даже прямее, чем когда-то в седле. — Да ничего, кроме одного-единственного, на что вы, свиньи-мужчины, только и способны.
И она удалилась со всем величавым достоинством, которое ей удалось приобрести, тщательно подражая покойной королеве-матери.
Полковник искренне расстроился: хорошенькое дельце под собственной твоей крышей! Он властно приказал кузену покинуть кухню. Впрочем, истекающий кровью, запыхавшийся злополучный Аполлон был только рад удрать подальше от такой ведьмы Дафны. Затем Фред и Джорджи принялись успокаивать Лиззи, но та не собиралась упускать шанса стать героиней мелодрамы. И продолжала закатывать истерику за истерикой с пронзительностью, почти превышающей человеческие возможности, а затем объявила, что сейчас же уйдет. Угрозы, обещания, мольбы, улещивания, призывы — все было тщетно. Заручившись таким козырем против «знати», Лиззи не желала лишаться положенного ей скандала.
Полковник отослал Джорджи спать и удалился на покой сам. Разоблачаясь с обычной своей медлительностью, он размышлял и часто покачивал головой. Скверное дело. И жаль, что Алвина с Джорджи все видели. Придется поговорить с Джаддом и Страттом — пусть заткнут девчонке рот. Нельзя допустить до скандала. Кузен должен будет извиниться перед всеми. И лучше ему на время уехать, пока Том с Лиззи не заживут своим домом.
Но худа — даже такого мелкого и грязноватого — без добра не бывает, что Фред и сообразил, когда забрался под одеяло. После всех намеков Алвины по его адресу — и чертовски мерзких к тому же! — забавно, что грешником-то оказался кузен! Полковник хихикнул, так им и надо с их фамильной гордостью! Нет, сэр, попался-то не Фред Смизерс, как бы они его там ни третировали, не Фред Смизерс, полковник по милости Божьей и недосмотру его величества, а кузен! Роберт Смейл, эсквайр. Джентльмен самых голубых кровей.
Полковник задул лампу и, похихикивая, подтянул одеяло под двойной подбородок. Хе-хе! Самых что ни на есть голубых кровей!
4
Джорджи и Перфлит встретились вновь под грузом добрых намерений.
Мистер Перфлит взвешивал все очень серьезно. И продолжал взвешивать днем в среду. Он был счастливым обладателем весьма вместительного и покойного кресла с пюпитром как раз на такой высоте, что мистер Перфлит мог предаваться чтению в сладостной безмятежности без унизительной физической необходимости держать книгу на уровне глаз. Перед ним на пюпитре стоял великолепно изданный «Золотой осел». (Естественно, в тюдоровском переводе — мистер Перфлит как-то вступил в переписку с покойным Чарлзом Уибли по одному весьма ученому вопросу.) Томик был открыт на сказке об Амуре и Психее. Но его взгляд то и дело отвлекался от очаровательной прозы, столь мило гармонировавшей со свиданием, которое очень и очень провинциальная Психея назначила своему далеко не юному и упирающемуся Амуру. Мистер Перфлит взвешивал.