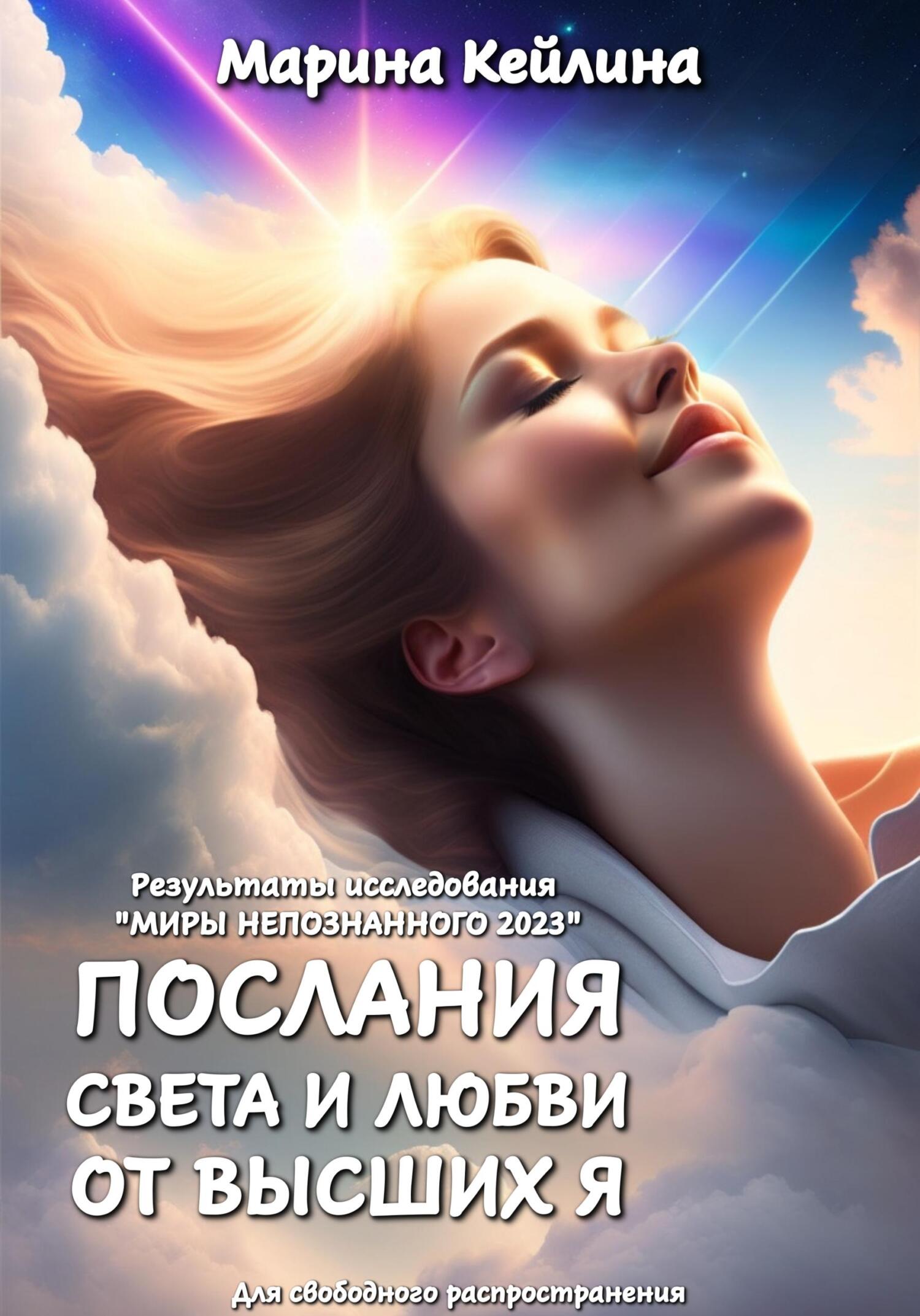и нервов мне понадобится на то, чтобы перевезти его прах в Италию, он бы сказал мне высыпать его в Тихий океан и забыть об этом. Но сказал он не это. «Привези часть меня на Сицилию».
Если бы он не попросил меня отвезти его прах на Сицилию, я и подумать не могла бы, что смогу такое сделать. Я могла бы развеять его на нашем любимом отрезке пляжа в Санта-Барбаре, на том месте, куда мы столько раз приходили за годы лечения, для того чтобы поднять ему настроение.
Зоэла постепенно просыпалась, вытягивая свою хрупкую фигурку вдоль моего тела.
– Солнышко, мама собирается пойти скоро в церковь, а потом на кладбище с прахом Баббо. – Меня поразило, что я говорила о себе в третьем лице.
Глубоко в душе я надеялась, что она не захочет идти со мной. Я была измотана многочасовым перелетом и петляющей автомобильной поездкой до дома семьи Саро. Мне казалось, я не справлюсь с ролью заботливой матери, одновременно присутствуя на службе. Достаточно было представить, что мне придется тащить ее вдоль мощенных брусчаткой улиц через весь город на кладбище. Она будет уставшей и ошеломленной. У материнства есть свои собственные требования. В это утро единственные роли, к которым я была готова, – скорбящая жена и невестка из другой страны.
– Могу я на него посмотреть? – спросила она, протирая глаза ото сна.
– На кого посмотреть?
– Посмотреть на прах.
Это был вопрос, которого я не ожидала. Я села на кровати и опустила ноги, коснувшись ими мраморного пола.
– Милая, он внизу в голубой урне, на столе. Ты же видела его. – Я почувствовала доносящийся из кухни под нами аромат эспрессо, сваренного на плите. – Давай придумаем, чем тебя накормить. – Я попыталась ее отвлечь своим классическим родительским способом.
– Но я хочу его увидеть. Я хочу посмотреть, что внутри. – Она села на кровати с ясными глазами, полными нетерпения. Выражение ее лица сообщило мне, что слезы наготове. – Я хочу увидеть Баббо.
Она месяцами просила увидеть своего папу. Его смерть, его полное отсутствие были не под силу ее молодому уму. Когда я говорила о его смерти, это напоминало ей, как она прощалась с ним, о поминках в Лос-Анджелесе; когда я попыталась рассказать ей о том, что его тела больше нет, но его душа будет с нами всегда, она отказалась слушать. Она ненавидела этот новый мир, в котором он был вне физической досягаемости, но по-прежнему незримо рядом с ней. Для семи лет она воспринимала все слишком буквально. «Невидимый» было равнозначно «несуществующий». Мой ребенок, который еще даже не пошел во второй класс, стачивал зубы о великие загадки, над которыми человечество размышляло с начала времен. Куда же мы, черт возьми, уходим после того, как умираем?
Но даже интуитивная и точная в своих желаниях, она все еще была маленькой девочкой, которая спустя три дня после смерти своего отца заявила мне, что сыта по горло домом, полным горюющих взрослых.
– Все сюда приходят к тебе. Он был моим папой. Почему они не приходят ко мне?
Они приходили. Своим, взрослым способом, и семья, и друзья беспокоились о ней, приносили ей игрушки и подарки, а затем выходили из ее комнаты и шли посидеть со мной. Три дня такого режима оказалось для нее достаточно, чтобы увидеть паттерн и обратить на это мое внимание. «Я хочу увидеть своих собственных друзей». Три дня – и она уже учила меня тому, что ей нужно было на самом деле.
На следующий день я пригласила в гости пятерых ее друзей. Они играли. Они писали по ее настоянию сообщения для Саро. Они создали картину в комнате, где он умер. Они положили цветы возле свечи, которую я держала зажженной. Они пели, танцевали. Вкратце, она руководила своим собственным коллективом и устроила поминки в школьном стиле.
– Ты не можешь посмотреть на его прах. Он в урне, которая запечатана. Ее нельзя открывать. – Я знала, что это неправда, но мне нужно было дать ей реальную причину, которую ее мозг не смог бы обойти. Истинная причина, что я скорее укусила бы себя за локоть, чем открыла урну на столе своей свекрови, была слишком агрессивной для ребенка с ее темпераментом.
И как только ее слезы решили произвести свой сицилийский дебют, я добавила:
– Но у меня есть немного здесь, в медальоне. Ты можешь на него посмотреть.
Следующие несколько минут мы сидели на кровати, уставившись на медальон. На одной его стороне располагалось крошечное изображение Саро, которое я вырезала из фотографии, а на другой был маленький запаянный пластиковый пакетик, который я уложила в форму сердечка. Мы смотрели на медальон до тех пор, пока Нонна не закричала с первого этажа:
– Tembi, sei sveglia? Caffe e pronto. – Темби, ты проснулась? Кофе готов.
Спустя полтора часа я переступила порог кухни Нонны и, выйдя на улицу, направилась к церкви. Зоэла решила в конце концов остаться дома с ее кузиной подросткового возраста, Лаурой. На самом деле она снова заснула, и я надеялась, что она проспит до моего возвращения домой.
Жара набирала силу тем утром с особой целеустремленностью. Мы со свекровью медленно шли рука об руку, шагая в унисон сначала вниз по улице к главной дороге, бывшей единственным входом в город и выходом из него. Она держала прах Саро и притягивала меня поближе к себе, когда мы проходили мимо пекаря и сыродела. В обед мы должны были получить хлеб и сыр, которые готовились в этих магазинах. Я не была уверена насчет того, что именно она приготовила, но нам определенно принесли бы угощение от скорбящих. В этом я была уверена. Это будет что-то утешающее, легкое в усвоении. Это та еда, что придает силы жить дальше.
Мы прошли мимо свежевыстиранного белья, висевшего на веревках, и брусчатки, покрытой овечьим пометом. Почтальон на своей «Веспе» пролетел мимо, направляясь вниз по склонам побережья в соседний город, прежде чем он сделает круг и вернется обратно в Алиминусу. Когда мы обходили пьяццу, единственную в городе площадь, я услышала, как вдалеке продавец фруктов рекламирует свой товар, говоря на своем скрипучем диалекте в громкоговоритель, установленный на крыше его маленького грузовичка: «Pomodori e pesche, freschi, buoni, buoini!» Он обещал, что его томаты и персики будут свежими, и такое нельзя упускать.
Я увидела, как открывают аптечную дверь. Затем мясника, принимавшего своего первого покупателя – старого мужчину в копполе, докурившего сигарету, прежде чем подойти.
Мы с Нонной поднялись вверх