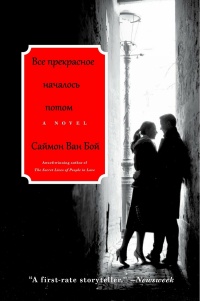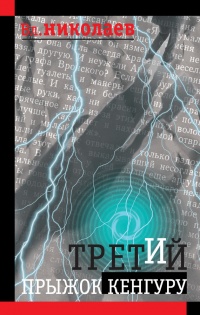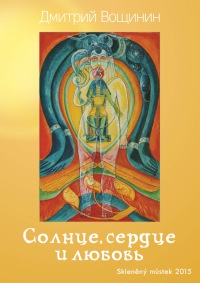У Домкрата в швейке действительно работали четверо вьетнамцев. Делали норму за десять баб. А денег хозяин платил им раза в два меньше.
— А на хрен они здесь нужны, эти кислоглазые жестоземы? Чтоб Домкрат брюхо отъедал? Кто их звал сюда?
— Законы рынка. Дешевая рабочая сила влияет на себестоимость товара. Тебе что, лекцию читать? — Ромку распирали знания по экономике, и он перешел дальше — к демографии: — Чтоб ты знал, желтая раса задушит нас. Потому что они работают и плодятся, плодятся и работают. А мы только пи. дим да квасим самопальную водку…
В ответ Мишка по-колхозному наотмашь дубасил матрац, который почему-то уже никак не напоминал узбекского дехканина, как ни всматривайся. Вдруг он остановился, поднял обезвоженные глаза на Романа — вспомнил… покойного тестя Гаврилыча. Вспоминал — с недоумением и тревогой. Тот, кажется, рядом со Сталиными-Брежневыми и остальными Буденными в иконостасе держал портрет Хо Ши Мина. «Самая дееспособная армия в мире — вьетнамская. Они еще покажут всем!» — слышалось потусторонне-назидательное…
Тогда пацаны это не восприняли всерьез: во-первых, Гаврилыч был нетрезв. Во-вторых, в кинохронике бойцы народно-освободительной армии Вьетнама казались какими-то игрушечными…
Вдруг упредительно скрипнула подвальная дверь, и на пороге появился вьетнамец Нгуен Ван Хай из бригады Домкрата. За ним — амбал со щеткой усов — участковый Прохор. Это был какой-то из многочисленных племянников того дылды Прохора, который когда-то, во времена оные, кошмарил округу.
«С подкреплением пришли», — подумал Мишка.
Роман отвлекся от Министра землетрясения и деловитно начал объяснять Нгуену, где должны стоять швейные машины, где кровати. Он разводил руками, как регулировщик. Дежурно улыбающийся вьетнамец достал мобильный телефон, что-то внутриутробно сказал своим соплеменникам.
— Это тоже ваш, — сказал Роман, указывая на матрац, висящий на стене и избитый Мишкой.
У того высоковольтно гудели опущенные кулаки: даже этот обоссанный матрац забирают!
На пороге появились желтоземые лица. Они уже притащили из бывшего детского сада швейные машины.
— А здесь будут стоять кровати, — пояснял Роман непроницаемо улыбающемуся Нгуену. Тот механически кивал и на механическом же языке давал распоряжения желтоземым маскам.
— Если бы ты знал, чего стоило это дело в миграционной службе! — снова обратился Роман к Михаилу. — Это все Домкрат провернул. Классно, вьеты здесь будут и работать, и спать. Соображаешь? Бросай свой кожзавод, переходи к нам.
И добавил, надеясь на понимание:
— Домкрат поехал за камуфляжной тканью… Скоро будет.
…С вывихнутыми мыслями и с гудящими кулаками по плоскостопым ступеням Михаил поднялся к себе на пятый этаж. Беспросветная жена Октябрина шмыгнула из квартиры — переждать грозу у золовки Раи, тишайшей и богобоязненной кривовязой сестры Михаила. Только при ней тот не позволял себе буянить…
«Вождь» желтоземых Нгуен между тем облюбовал для себя слесарку покойного Гаврилыча. И то правильно, после его смерти никто из сантехников-водопроводчиков не задерживался на этом рабочем месте. Но портреты вождей не истлевали.
Пермь
Криминальное колесо
Рассказ
Звезд у соседа на сизых погонах становится все больше, и они все яснее. Однако он, сосед, старается быть проще, доступнее. Сердито протестует, когда обращаешься к нему на «вы». «Соседи, ровесники — как можно?!» Ежеутренне довозит меня к уже обреченной конторе, расположенной вовсе не по пути. Я благодарю соседа и отправляюсь на службу. Непременно черная Волга с достоинством удаляется.
«Привет… привет…» — сослуживцы равнодушно встречают меня. Свободолюбиво распахиваю все окна. Фрамуги в радужных разводах перекаленного стекла как бы отворачиваются от меня, скрипя на петлях. Мутное двойное отражение заставляет меня поправить очки. Скорректировав левый «плюс» и правый «минус», досадую на примороженное выражение своего изображения. Что ж, неуправляемость мышц лица меня даже как-то устраивает. Будем считать, что это непроницаемость, а если честно, то врожденное равнодушие.
Неадекватные стекла очков гасят, искажая, мой якобы горящий, но скорее воспаленный элементарным конъюнктивитом взгляд. Предчувствие мое зашкаливает перед лицом фактов. Входит шеф, торжественный и громкий, как духовой оркестр. Исполнив на медных тонах свои должностные обязанности — общо ознакомив нашу разношерстную и разночинную братию с текущим производственным моментом, — уходит. А затем его зам буднично сообщает, что грянуло не просто очередное сокращение, но категорическая ликвидация конторы. Без всяких юридических тонкостей. Вот.
Активно настроенных, недовольных произволом, тут же включают в ликвидационную комиссию. Я отказываюсь: к чему длить мучительную агонию?
Последний день нашей совместной деятельности проходит в псевдодружественной и слегка наэлектризованной атмосфере. То есть это касается мужской половины нашего все еще коллектива. Женщины же, наше прекрасное меньшинство, пребывают в промежуточных истериках.
Впрочем, мне не до коллективных женщин. Я сегодня — иной, или, может быть, даже прежний, но уже слабо барахтающийся на мелководье обстоятельств. Мне нет ни до кого никаких дел. Все ведь еще пребывают в относительной безопасности. Но барахтаются с упорством обреченного, желая нащупать дно, пусть илистое. Затем намереваются добраться до прибрежных кустов, которые скроют их срам от лишних людей. Я спокоен за них, мне их не жаль — они же не по-настоящему тонут.
Разве что обидно расставаться с некоторыми, то есть с ней, с прелестницей Т. К. Она и сейчас остается соблазнительной, несмотря на конторскую драму. С прогрессивными взглядами и вся в действии. Ей ведь всегда хотелось изменить образ жизни, прическу, наконец, мужу.
Я выхожу из своей упраздненной конторы. Безответственная и несерьезная свобода, какая-то необязательность беспризорно водят меня между новыми коммерческими и прочими киосками. Подхожу к невыразительному газетному и — ничего не покупаю. Кажется, начинаю экономить.
Домой идти преступно неохота. По улице проплывает чопорная Волга. Через стекло на чиновном околыше пассажира серебрится кокарда. «Привет, сосед!» Без «вы» и отчества.
За неформальным мужским застольем я как-то спрашиваю: «…ан…вич, зачем вы себе такой большой дом построили?» «Ну, я же не виноват, что у вас у всех такие маленькие домики», — с детской обидой на официальном лице отвечает…ан…вич. Я понимаю — он в этом не виноват. Он также не виноват, что свое интернациональное имя-отчество в связи с текущим моментом перекроил на исконно сермяжное. Потому практически непроизносимое. Вот и стал для краткости «Ан-вич».
А я все не могу заглянуть по-ревизорски в его глаза. Они земноводно-зеленого цвета, к тому же защищены импортной оптикой и поволокой лукавства.