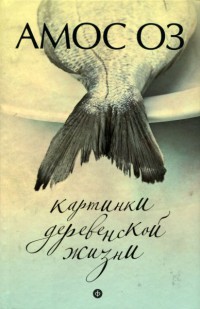Книга Повесть о любви и тьме - Амос Оз
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
В один из вечеров я опоздал на последний автобус из Реховота в Хулду и вынужден был добираться на такси. В тот день по радио беспрестанно говорили о Нобелевской премии, которая была поделена между Агноном и Нелли Закс, и водитель такси спросил меня, слыхал ли я когда-нибудь о писателе Агноне (он произнес «Эгнон»).
— Гляди-ка, что получается, — удивлялся и восхищался водитель, — никогда мы о нем не слышали, и вдруг он выводит нас во всемирный финал. Только как же так? Очень жаль, что в финале вышла ничья с какой-то женщиной.
Господин Агнон тоже сожалел по поводу этой «ничьей». Он полагал, и даже с полной серьезностью обсуждал это, что Комитет по Нобелевским премиям вновь обратится к нему через два-три года и вручит ему Нобелевскую премию, полностью, без партнеров и без чьих-либо претензий. Однажды, как бы насмехаясь над своей любовью к самому себе и жаждой почестей, которая непрестанно снедала его, он сказал:
— Идите и смотрите, как велик почет, раз люди готовы ради него унизить себя до праха земного.
* * *
В течение ряда лет я прилагал все усилия, чтобы освободиться от тени Агнона, я боролся, чтобы уйти в своем творчестве от его влияния, от его языка, насыщенного, изысканного, порой столь самобытного, от его точно выверенных ритмов, от того чувства душевной отрады, которое навеяно талмудическими притчами и соткано из теплых отголосков языка тех, кто в трепете взывает к Богу, из отзвуков идишистских мелодий и сочных хасидских сказаний. Мне предстояло освободиться от влияния его насмешки и иронии, от его вычурно-барочной символики, от загадочных игр в лабиринт, от двойного смысла и его безукоризненных литературных розыгрышей. Даже после всех усилий в попытках отдалиться от него, после всех стараний освободиться, и по сей день все, что я перенял у Агнона, наверняка в немалой степени отзывается в тех книгах, что я написал.
Но чему же, по сути, я научился у него?
Возможно, так: отбрасывать более одной тени. Не выковыривать изюм из пирога. Обуздывать и оттачивать боль. И еще одной вещи, о которой моя бабушка говаривала с большей остротой — по сравнению с той же мыслью, найденной мною в произведениях Агнона: «Уж если у тебя больше не осталось слез, чтобы плакать, так не плачь. Смейся».
Иногда я оставался ночевать у дедушки и бабушки.
Бабушка, бывало, указывала вдруг на какой-нибудь предмет из мебели или одежды, а то и на человека и говорила мне:
— Он до того безобразен, что уже почти красив.
А иногда замечала:
— Он стал таким умным, этот умник-разумник, что уже ничего не понимает.
И еще так:
— Это болит, и болит, и болит, так что уже начинает немного смешить…
Целый день она напевала самой себе мелодии, привезенные из тех мест, где жила она, не испытывая, по-видимому, ужаса перед микробами, не сталкиваясь с наглостью, нахальством, грубостью, на которые она вечно жаловалась, потому что здесь все ее задевало.
— Как скоты, — бывало, цедила она сквозь зубы с отвращением — без всякой видимой причины, без всякой провокации с чьей либо стороны, без всякой связи с чем-либо, и при этом, не потрудившись объяснить нам, кто тут выглядит в ее глазах «скотами». Даже когда вечером я сидел рядом с нею на скамейке в городском парке, где не было ни души, и легкий ветерок нежно касался листвы, а, быть может, и, не касаясь ее прозрачными пальцами, вызывал дрожь, пробегавшую по кончикам листьев, даже тогда бабушка могла вдруг остолбенеть и, задрожав от омерзения, потрясенно выпалить:
— Ну, в самом деле! Как это можно! Хуже скотов!
И спустя минуту, она вновь тихонько мурлыкала себе под нос мелодии, которых я не знал.
Она все время напевала самой себе — и в кухне, и перед зеркалом, и в кресле на балконе, и даже ночью.
Не раз — после ванны, чистки зубов, прочистки ушей палочками, головки которых были обернуты ватой, — меня укладывали спать рядом с ней в ее широкой постели (эту двуспальную кровать мой дед оставил раз и навсегда, а, возможно, был изгнан еще до того, как я родился). Бабушка читала мне рассказ-другой, гладила меня по щеке, целовала в лоб и тут же протирала мой лоб маленьким платочком, пропитанным одеколоном (этот платочек она все время держала в левом рукаве, пользуясь им, чтобы стереть или уничтожить микробов), а затем она гасила свет. Но и после того, как свет был погашен, она все продолжала напевать и напевать в темноте, вернее, не напевать, и не мурлыкать, а — как бы это описать — она словно извлекала из себя некий отдаленный мечтательный голос, его звук был орехово-коричневого цвета, темный и приятный, он медленно-медленно становился все тоньше и тоньше, превращаясь в эхо, в оттенок, в аромат, в шероховатую нежность, в коричневую теплоту, в ласковые воды, обволакивающие младенца в утробе матери. Всю ночь.
* * *
Но все эти ночные изыски — шероховатость, теплота, воды материнской утробы — все это она заставляла неистово соскребать с себя, стоило только мне проснуться, первым делом, еще до стакана какао без пенки. Я просыпался в ее кровати на звук выбивалки дедушки, уже ведущего свои рассветные сражения: по велению бабушки он каждое утро поднимался еще до шести, выходил на балкон и с воодушевлением Дон-Кихота наносил удары по покрывалам и матрасам.
Еще до того, как ты открывал глаза, уже ждала тебя ванна, наполненная пугающе горячей водой, в которой растворена была какая-то антисептическая жидкость, пахнущая больницей. На краю ванной уже дожидалась тебя зубная щетка, на которую выдавили для тебя извивающегося червяка цвета слоновой кости. Ты обязан был окунуться, хорошенько намылиться, потереть себя мочалкой (кудрявым клубком, называемым «лифа»), вновь окунуться… И тут появлялась бабушка, ставила тебя на колени в наполненной водой ванне, силой удерживала за руку и собственноручно драила тебя снизу доверху, и вновь сверху донизу какой-то щеткой, должно быть, предназначенной для лошадей. Ужасная щетина этой щетки напоминала железный гребень времен злодейского римского владычества — такие железные гребни рвали кожу и плоть рабби Акивы и остальных мучеников. Бабушка драила тебя до тех пор, пока твоя кожа не становилась совершенно розовой, словно полупрожаренное мясо, и тогда бабушка повелевала крепко-крепко зажмурить глаза, мылила твою голову и взбивала пену, своими крепкими ногтями она скоблила корни твоих волос, подобно Иову, что истязал плоть свою, скребя ее черепком. И все это время она объясняла тебе своим приятным, коричневым голосом, какую пропасть грязи, скверны, пакости, нечистоты выделяют железы тела каждой ночью, пока мы спим: например, липкий пот и всякие жировые отходы организма, и всякие отбросы в виде перхоти и чешуек кожи, и выпавшие волосы, и мерзость множества умерших клеток, и еще всевозможные мутные жидкие выделения, не приведи Господь узнать про все это. И пока ты спишь и абсолютно ничего не чувствуешь, все эти выделения размазываются по твоему телу, смешиваются друг с другом и приглашают — прямо-таки в буквальном смысле приглашают! — микробы, бациллы и вирусы, которые явятся и заполнят всего тебя. Не говоря уж обо всем том, что наука пока еще не открыла, обо всем, что мы пока еще не можем увидеть даже в самый сильный микроскоп. Но даже если мы этого не видим, все равно это путешествует себе всю ночь по твоему телу триллионами своих малюсеньких ножек, волосатых, грязных, отвратительных, точно таких же, как у жуков и тараканов, только совсем крошечных, так что не только мы, но даже ученые их еще не видят. И вот этими ножками, поросшими мерзкими щетинками, это ползает и заползает в наше тело через нос, и через рот, и через… Я не должна говорить тебе, через что они могут еще заползти, но, главное, что там, в этих не совсем красивых местах, которые люди никогда, ну прямо-таки никогда не моют, как следует… Они вроде бы подтирают, но подтирание ведь вообще не имеет к чистоте никакого отношения, наоборот, с его помощью все грязные выделения втираются в миллионы крошечных отверстий, которые есть на нашей коже. И чем дольше мы будем потными, противными, отвратительными, тем больше эта грязь, что скопилась внутри, будет все время, буквально все время, выделяться, днем и ночью, и смешиваться с той наружной грязью, что прилипает к нам от прикосновения к негигиеничным вещам, про которые, поди знай, кто к ним прикасался прежде… Скажем, деньги, или газеты, или лестничные перила, или дверные ручки, или даже покупная еда: кто может знать — не чихнул ли кто-нибудь на то, что ты берешь в руки, а может, уж прости меня, кто-то вытирал свой нос поблизости, и капля-другая сорвалась и капнула прямиком на эти золотые оберточные бумажки, которые ты запросто подбираешь на улице и кладешь на кровать, на которой люди спят… А что уж говорить о твоих пробках, которые ты подбираешь на мусорке, либо о горячей кукурузе, которую твоя мама, пусть только она будет здорова, купила у человека, возможно, даже не вымывшего руки и не вытершего их после того, как сделал он… прошу прощения… И как мы можем быть уверены, что он вообще человек здоровый? Что нет у него случайно туберкулеза в открытой форме? Или холеры? Или тифа, или желтухи, или дифтерита? А может, у него абсцесс, или желудочная инфекция, или экзема, или псориаз, напоминающий проказу, или язвы на коже? А может, он вообще не еврей? Ты вообще знаешь, сколько тут есть болезней? Сколько тут левантийских эпидемий? И я говорю только о тех болезнях, которые известны, а не о тех, что пока неизвестны и даже учеными еще не открыты: какой-нибудь там паразит, или бацилла, или микроб, или крошечные глисты, которые врачам вообще неизвестны… Особенно здесь, у нас, где так жарко, и полно мух, комаров, муравьев, жуков, тараканов, мошки, гнуса, москитов, и кто его знает, чего еще… И люди здесь потеют без конца, ко всему прикасаются, трутся друг о друга — тот, у кого воспаление, прикасается к тому, у кого гнойник, со всем потом и прочими жидкостями, выделяемыми телом, о которых тебе в твоем возрасте лучше бы и не знать, обо всех этих заразных жидкостях… И каждый так легко может передать свою жидкость другому, так что тот, другой, даже и не почувствует, что к нему прилипло во всей этой здешней тесноте и давке. Достаточно рукопожатия, чтобы передать тебе любую эпидемию. И даже ни к кому не прикасаясь, только вдохнув воздух, которым уже кто-то дышал, можно впустить в свои легкие все микробы и бациллы — стригущего лишая, или трахомы, или шистосоматоза, то бишь, кожной сыпи, зуда и прочего. Санитария здесь пока еще совсем не европейского уровня, а о гигиене половина здешнего населения вообще никогда не слыхала. И воздух тут полон всякими азиатскими насекомыми, отвратительными пресмыкающимися с крыльями, которые появляются здесь прямо из арабских деревень и даже из Африки, и кто знает, какие невероятные болезни, воспаления, гнойники приносят они с собой беспрестанно, — ведь Левант переполнен микробами… А теперь ты сам хорошо-хорошо вытрись, как большой мальчик, не оставляй ни одного не вытертого места, а затем сам посыпь, осторожно-осторожно, немного талька туда, куда, ты сам знаешь, следует посыпать, и во втором месте тоже, вокруг этих двух мест. И я хочу, чтобы шею свою ты смазал хорошенько из тюбика «Вельвет», вот он тут лежит. А затем ты наденешь одежду, которую я кладу здесь, эту одежду приготовила тебе твоя мама, чтоб она была здорова, я только прошлась по ней горячим утюгом, это дезинфицирует все, что там кишит, это даже лучше, чем стирка. А после всего этого приходи ко мне в кухню, красиво причесанным, получишь стакан какао, а уж потом позавтракаешь.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Повесть о любви и тьме - Амос Оз», после закрытия браузера.