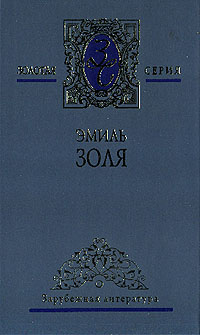— Да, конечно. Мы скоро пойдем туда, Хуго… А теперь… Спи спокойно!
Она поднялась и выключила верхний свет, так что теперь горел только ночник у постели. Но Хуго воскликнул:
— Нет! Подойди еще сюда.
Эрна поддалась соблазну и медленно подошла. Мальчик схватил ее за руку и твердо на нее посмотрел:
— Ты не уйдешь! Да?
Она беспомощно засмеялась. Ее лицо слегка исказилось. Затем она склонилась к Хуго, не говоря ни слова. Его голос вдруг стал хриплым и глубоким:
— Нет! Ты не уйдешь! Но знаешь, что я сделал бы, если б ты ушла?
Эрна ниже склонилась над постелью. Ее губы вопросительно раскрылись. Ногти Хуго больно впились ей в ладонь.
— Я бы ушел с тобой, Эрна… очень далеко… далеко отсюда… пусть мы и жили бы в стесненных обстоятельствах… Эрна, ты должна мне доверять!
Он бросал возбужденные взгляды в мягко освещенную темноту большой комнаты, будто с ненавистью к белой лакированной мебели и спортивным снарядам. Эрна, все еще склоняясь над ним, не шевелилась. Тут он схватил и другую ее руку таким резким рывком, что ее халат сдвинулся, обнажив часть плеча. Он же тяжело дышал, почти плача:
— Я бы ушел с тобой, Эрна… далеко отсюда, от мамы… Мне вовсе не нужно идти в гимназию… Я мог бы учиться у Альберта… стать его помощником… Мы вместе зарабатывали бы деньги… Но ты ведь останешься у нас, Эрна… Ты останешься со мной…
Губы Эрны все еще не смыкались, будто она хотела что-то сказать. Хуго со спокойным блаженством чувствовал, как ее красивое крупное лицо, ее милые, волнистые от мытья волосы приближаются к нему, склоняются над ним. Но Эрна сказала только: «Спокойной ночи, Хуго!» — и нежно поцеловала его в губы.
Этот поцелуй был всего лишь более сильным дуновением фиалкового аромата. Она уходила. Синева длинного одеяния играла вокруг поступи ее сандалий. В отдаленности темного помещения ее фигура казалась исполинской. Вот она исчезла и закрыла за собой дверь. Впервые с тех пор, как поселилась в доме, закрыла за собой на ночь дверь.
Была глубокая темная ночь. Хуго бился с упрямой мыслью. Эта мысль не имела отношения не только к стесненным обстоятельствам и изобретениям Альберта, но и к папиной коллекции и гимназии. В этой неугомонной мысли смешались мучительные картины. Папа в своей величественной изысканности играючи справлялся со всеми сложными задачами жизни, в то время как Хуго бездеятельно и неловко терпел в них неудачу. Оба, папа и Хуго, плыли в море; папа — легкими уверенными рывками, Хуго же, напротив, не двигаясь с места. Не лучше обстояло дело с упражнениями на спортивных снарядах и с устным счетом. Мальчик метался в кровати. Каким отвратительным было это состояние — блуждать среди незаконченных, коварно ускользающих представлений!
Тут он почувствовал, — и сердце его замерло, — что не один лежит в постели. Он сжался в комок. Но в этом не было никакой нужды, — ведь то, другое, было неотвратимо тут, около него, мягкое, огромное, теплое. Оно дышало. Его жаркое дыхание размеренными волнами достигало затылка Хуго. Никакого сомнения, оно лежало за его спиной! Увы, теперь оно прикасалось к нему, прижималось к нему, могучее, пышущее жаром, нагое: женщина! Эрна! Хуго хотел закричать: «Чего ты хочешь? Я ведь не сплю!» Но жуткое блаженство вцепилось в его тело и душило его. Он колотил вокруг себя руками. На мгновение ему удалось столкнуть с себя пахнущую фиалками вязь. Он мчался по улицам и улочкам родного города. Но вот опять могучее, жаркое и дышащее держало его в объятиях. Даже когда он бежал, оно прижималось к нему, божественно и ужасно, все такое же близкое, такое же горячее. Эрна уже вталкивала его голыми руками и грудями в темную прихожую дома. Он свалился в тени большого креста. Теперь он должен умереть — ведь он истекал кровью.
С криком: «Я ведь не сплю!» — Хуго вскочил с кровати. Он стоял в совсем чужой теперь комнате. Он долго не мог сориентироваться. Где окна? Ах да, там… Это, наверное, дверь… Никакой светлой щели! Она закрыта. Дрожа, крался он обратно к своей постели, которая была уже не прежней его постелью, а влекущим и опасным логовом.
Когда наутро Хуго проснулся, он увидел в комнате маму. Она только что открыла ставни и засмеялась:
— Вставайте, мой господин! Не отвергайте всемилостивейше мое присутствие. Фрейлейн Эрна взяла на некоторое время отпуск. Так что мы теперь предоставлены самим себе. Я прошу о возможно бережном со мной обращении.
Хуго ничего не ответил, а скорчил гримасу, будто собираясь повернуться на другой бок и заснуть снова. Но мама настойчиво подсовывала ему чулки:
— Серьезно, Хуго, поторопись! Внизу тебя ждет уже господин доктор Блюментритт. Замечательный ученый, а еще молодой человек! Я с ним сама с удовольствием побеседовала!
Хуго, не двигаясь, смотрел в пол. Он еще не проснулся, думала мама. Она стала его тормошить. Он не кривил рта, не спрашивал, когда вернется Эрна. Он начал медленно одеваться.
1927
РазрывОна не чувствовала боли, когда ее, покрытую белой простыней, отвозили на носилках в операционную. Только странное, бурное сочувствие к своему бедному телу — но оно будто принадлежало другой женщине. Когда ее везли мимо зеркала, она успела увидеть отражение своего лица, головы, обмотанной белыми бинтами, как чепцом монахини. Белое мне к лицу, решила она. В эти страшные минуты ее охватило грустное самодовольство.
«Я сейчас неплохо выгляжу — вероятно, и Юдифь признала бы это».
Ассистент-ординатор, сопровождавший больную, думал, что она хочет что-то сказать, но не может. Он мягко пожимал ее ладонь. Габриель впитывала поток бодрости, исходивший из этой здоровой энергичной руки.
Когда они с братом были детьми, Эрвин так часто брал ее за руку. Беспокойно и жадно рука мальчика сжимала ладонь Габриели, вгрызалась в нее, как в сладкий плод.
Но крепкая рука врача была спокойна и придавала уверенность, действовала благотворно. Габриель глубоко дышала.
И вот она в операционной, на ложе страданий.
Медсестра осторожно сняла покрывало.
Точно Габриель — сверток с хрупкими осколками. Она не смотрела на себя вниз, чтобы не увидеть ужасного. И в самом деле, она ничего не знала про обрушившуюся на нее силу, словно несчастье случилось не два часа назад, а в баснословные доисторические времена.
Ей удалось все свое самоощущение сконцентрировать в лице, в сознании. А такой ясностью, такой силой сознание ее никогда еще не обладало. Совсем новым, незнакомым стало ее лицо. Габриель чувствовала это и радовалась той необыкновенной красоте, которая на него снизошла. Будто руками скульптора последние минуты вылепили из очертаний лица самую суть ее существа, которую она сама не знала и ощущала теперь с гордым честолюбием.
И потом — почему ей не больно? Она ведь должна испытывать невыносимую боль! Или настоящей боли вообще не бывает, только страх перед нею?