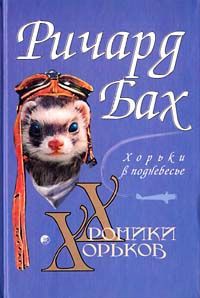приборов ее заячьими хвостами полезла изжеванная ровница.
— А ну, старая, показывай себя! — крикнул Володя-Камбала.
И машина себя показала. Ее одинокий шум ходил по цеху от стены до стены, и то, что в обычные дни тонуло в общем гуле, сейчас было особенно слышно — старческий скрип ее, кашель и усталость.
Иван остановил машину.
— Ну, как там барабаны?
— Нормально, — отозвался Кореш.
— Разбирай тогда верх и складывай все к стене. Сверчок, в валичную живо, а потом за лениксы. Володя, на правую сторону. А я главным узлом займусь.
— Дело, — откликнулся Кореш. — Только давайте по-быстрому. Раз-два давайте.
Анатолий и верно скоро вернулся. Оказывается, Исаев ушел за молоком на базар. Он на работу в выходные и праздники приходил с эмалированным бидоном. Бригадир, пока бегал в мастерскую и узнавал, где Исаев, поостыл и, вернувшись в цех, обрадовался, что остальные не стали его дожидаться и разобрали весь верх машины. Значит, отпадает разговор с мастером, не будешь же, в самом деле, снова собирать машину только для того, чтобы отказаться ее ремонтировать. Анатолий одобрительно улыбнулся Ивану, закатал рукава рубашки.
— Ладно, — сказал, бодрясь, — последний раз не по-нашему… Барабаны смотрели?
— Кореш смотрел.
— Как барабаны, Кореш?
— В порядке.
— Тем лучше.
— Быстрей кончим, — подтвердил Кореш. Этот обыкновенно ленивый, медлительный парень вдруг заспешил, и узлы вытяжных приборов так и рассыпались под его руками.
Павел собрал валики, связал их тесьмой и отправился в валичную мастерскую. Из мастерской, уже налегке, он было побежал обратно в цех, но на лестнице замедлил шаги. Вообще-то, надо бы в бригаду, работа только началась, дел много, а с другой стороны — хотелось заглянуть к маме на станки, пусть и нет ее там сейчас, просто хоть постоять минуту возле ее восьми железных, черных, мохнатых от налипшего пуха «братцев».
«На минутку можно», — решил Павел, спустился на первый этаж, прошел длинным коридором и выбежал во двор.
В фабричном дворе вовсю уж разгорелось погожее майское утро. Золотые широкие полосы света обдавали щербатые кирпичные стены и стертые булыжины мостовой, на карнизах истомно стонали и ворковали голуби, порой слышался тугой фыркающий звук их крыльев; трава, пробивающаяся у фундаментов корпусов, стала как будто ярче, гуще и плотней.
Павел вошел в ткацкий корпус, где сегодня тоже было тихо и сумрачно, и направился в третий цех.
Эта привычка — приходить к маме «за станки» — родилась еще в то время, когда он был курьером планового отдела и чувствовал себя на фабрике одиноким и потерянным. Он радовался, когда смены его и мамы частично совпадали, когда он знал и чувствовал, что она здесь, рядом, в цехе, хлопочет у восьми своих станков. Если мама работала утро — с шести часов до четырнадцати, — он только и ждал перерыва на обед, чтобы прибежать к ней — за деньгами, а вообще-то — побыть рядом с ней.
В ткацком цехе особенно не разговоришься: шум здесь такой, что люди, сойдясь близко, должны кричать на ухо, чтобы услышать друг друга. И все же у Павла было впечатление, что, приходя к маме, он и говорит с ней. У мамы за время работы на фабрике, а она поступила сюда еще до войны, развилась редкая способность говорить все что нужно жестами, улыбкой, взглядом, и Павел уже научился не только понимать этот ее язык, но и отвечать.
Мама у станков была проворна и быстра, как белка. Заметив сына обычно издали, она вдруг озарялась вся теплой, доброй, чуть печальной улыбкой. Лицо ее, только что сухое, напряженное, мгновенно мягчело, расправлялось, глаза странно молодели, делались блестящими, живыми; что-то девичье, смущенное и легкое появлялось во всей ее худощавой, невысокой, но ладной фигурке. Она приветливо махала рукой, подходила и спрашивала глазами: «Ну, как? У тебя все хорошо?»
«Нормально», — отвечал он улыбкой, он всегда отвечал ей «нормально», даже когда перешел в ремонтный отдел на чистку деталей и у него мутило в желудке от керосиновой вони и горели руки, обожженные паром.
Мама непременно касалась его ладонью, белой и гладкой от крахмала, которым она пользовалась, чтобы нить не липла к потным рукам, или по волосам поерошит, или просто подержит свою невесомую почти, жестковатую ладонь у него на плече. Это означало: «Родной ты мой. Родной…» — и Павел, чтобы не особенно расчувствоваться, задорно подмигивал ей: мол, конечно, родной, а то как же…
Мама, морща седловинку вздернутого носа, тоже подмигивала и кивала на большие электрические часы на стене. Это означало: «Я скоро домой, вот так…»
Павел нарочито печально вздыхал и тут же смеялся глазами: «А мне еще работать… Зато у меня обед. Я сейчас в столовку, там поем чего-нибудь вкусненького».
Иногда, случалось, он показывал ей на станочный ряд: «А у тебя станок встал. Заговорилась ты сегодня».
Мама огорченно вздыхала, хмурилась — все это сквозь улыбку, которая никак не хотела сбегать с ее лица. «Ой, и верно…»
Она опускала руку в кармашек серенького, отороченного красной ленточкой фартука и доставала денежку — бумажку на обед, заранее припасенную, сложенную вчетверо, пахнущую крахмалом и канифолью. Он брал деньги и порывался уйти, но мама останавливала его жестом руки, и в пальцах ее, сомкнутых замочком, повисала конфета в пестрой или золотистой бумажке. Мама показывала глазами на соседние станки: мол, подружки угостили…
Сейчас в цехе было не просто сумрачно, а темно от шкивов, перекрещивающихся над станками серыми, тяжелыми лианами. Окна лишь брезжили сквозь них. Темно и мертво. Казалось, вместе с людьми ушли отсюда и электрический теплый свет, и шум работы, и сама жизнь, лишь иногда слышался звук капли, упавшей с труб увлажнительной системы и сплющившейся о цементный пол.
Павел прошел по «восьмерке» мамы, трогая шершавые, серые полотна на станках. Все здесь было прибрано, все на своем месте, как дома: белый мешочек с крахмалом, противешок с канифолью, пучки аккуратно нарезанных ниток-концов. И сотканное в последние часы работы суровье, и запасные челноки, гладкие и странно тяжелые, будто литые, казалось, еще хранили в себе живое тепло, тепло маминых рук. Да и вообще образ мамы точно витал над этим станочным рядом, никогда не покидая его, и, если затихнуть, задуматься и смотреть долго и неотрывно на «тропу» между станками, по которой она ходит, можно увидеть ее подвижную, знакомую, летучую тень…
Павел вздохнул, потрогал туго натянутое шершавое полотно на крайнем станке и выбежал из ткацкого цеха.
Ни бригадир, ни Маянцев, ни Володя не заметили его задержки. Они продолжали разбирать машину и говорили о ней и