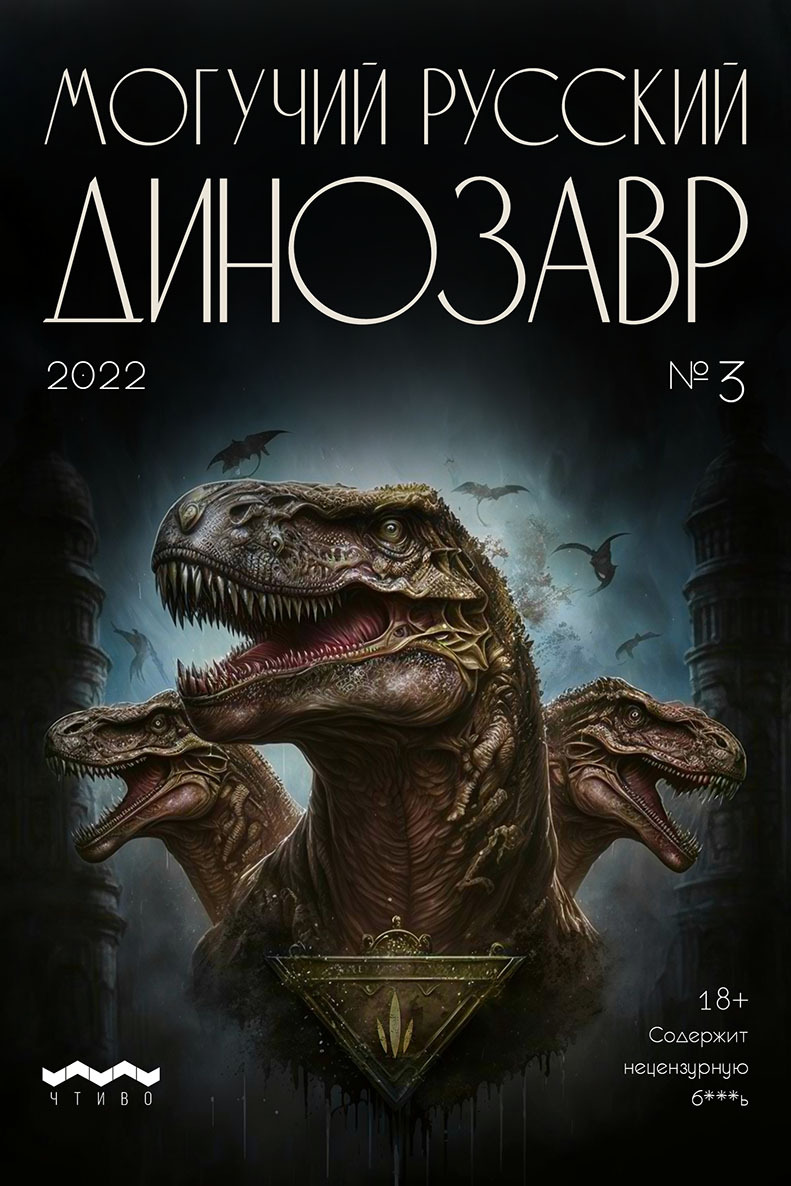светит между деревянными планками окна. Скоро закат. Его пальцы небрежно сжимают стакан, отражающий свет словно янтарь.
— Ну как, молоко появляется? — спрашивает он с улыбкой.
Лицо медленно стекает с нее и падает вниз в пропасть. Там оно летит дальше.
Как только он уходит, Коре прячет куклу в одеялах в гардеробе. Вернувшись в комнату, она ищет своих зверей. Встает на колени и смотрит под кроватью, приподнимает одеяло. Взгляд блуждает по комнате, она выбегает в коридор, в комнату с фильмами, в туалет и обратно к себе. Их нигде нет. Только пластиковые звери смотрят с полки, угрюмые, с нарисованными улыбками и синтетической шерстью. Она ощупывает собственное лицо. Под слоем блестящей резины одни комки, будто высохшие куски угля прямо на скелете.
Коре трет и трет.
В тот вечер все ускоряется и в то же время тянется бесконечно медленно. На самом деле уже слишком поздно. Она знает. Кровавый фрукт, устный договор и плачущее, распухшее лицо отца.
— Ну я же тебя не насиловал, — говорит он после паузы.
Она не понимает, зачем он говорит это, что это значит. Значит, есть такие мысли там, у него? Этот взгляд? Она мгновенно его узнает, не может теперь чувствовать ничего другого. И сказал он это в свою защиту. Что, если бы он действительно это сделал, Коре была бы права. Ее бы могли осмотреть, нашли бы следы. Черную горошину никто не находит, она для всех невидима.
Она как заяц бежит, как всегда убегает. Вниз в нору, вниз под землю.
Ночью она просыпается от того, что стоит посреди комнаты во мраке. Пытается за что-то ухватиться. За звук, который услышала. Отдаленный, холодный звук, как от трения металла по фарфору. По зубам. Она уже слышала его, но не знает, откуда он. Комната полна дрожащих теней, которые сжимаются и вырастают. Она медленно идет к двери, двигается вдоль стен коридора. Открытая дверь туалета — вытянутая бездонная дыра во мраке, она идет дальше, вперед, как лунатик, машинально, с затуманенным взглядом, как будто находится под водой. Или под землей. Коре чувствует ее тяжесть, как земля давит на стены и потолок. Когда она отрывает влажные после сна ступни от пола, слышны только тихие липкие звуки. Она точно знает, куда нужно ступать, чтобы пол не скрипел. Как будто она сотни раз вставала ночью, слышала звук и шла проверять, что это. Прямо перед ней — дверь в кабинет, то приближается, то отдаляется. Пульсирует туда и обратно. Наружу падает полоска света, дверь приоткрыта, обычно она заперта. Коре видит внутри его силуэт, большой и грузный, склонившийся над чем-то. И вот она уже совсем рядом. Когда она видит его спину, становится труднее вдыхать воздух, тяжелая, мокрая простыня обхватывает грудь, воздух на вдохе вдруг становится холодным, как будто она съела таблетку от кашля, она старается не вдыхать слишком глубоко, малейший звук заставит его обернуться и уставиться на нее светящимися глазами, ядовито зелеными в густом мраке. Широкая спина теперь всего лишь в метре от нее, спина в белом халате, папа покачивается вперед и назад, как будто смеется, локти по бокам то и дело подскакивают вверх. Он к чему-то наклоняется — ей не видно, к чему. На нем белые резиновые перчатки, рядом стоит белый поднос с металлическими инструментами. Там есть зажимы, пинцеты, скальпели — его движения ускоряются, он бросает один инструмент, берет другой — те, что он использовал, запачканы кровью, и вот ноги Коре сами идут к нему, медленно, как против течения.
И тут она видит, что лежит перед ним на столе.
Видит это. Видит.
Она зажимает рот руками, чтобы не закричать, но колени подкашиваются, трясутся, когда со стола ее пронзает умоляющий взгляд, тот самый, который никогда не возражает, никогда не противится, никогда не говорит «нет», а только «да, да, да, делай со мной, что хочешь»! Она видит взгляд ребенка, взгляд жалостливый, робкий, никчемный. И она пятится из кабинета, шаг за шагом, ш-ш-ш, тихо, тихо, не теряет из виду рот, и взгляд, тот самый взгляд, самый ужасный на свете. В коридоре она разворачивается и бежит, больше не беспокоится о шуме, она просто должна отсюда выбраться, назад в комнату, успеть, но время уже давно истекло.
Никому не ведомо, откуда берется храбрость.
Но рано или поздно наступает ее час.
Рано утром она делает последнюю попытку и молча зовет к себе зверей. На этот раз они приходят, те, кто остался. Выжили только двое. Когда Коре гладит Титуса по спине указательным пальцем, у него в глазах пустота. На вид он невредим. Иврахим ослеп на оба глаза, как будто кто-то жег его головешкой. Коре осторожно поднимает зверей, кладет в рюкзак и крадется наружу. Она идет мимо домов, только один сосед не спит. Он идет от почтового ящика, неуверенно поднимает руку для приветствия. На автобусной остановке она машинально достает деньги. Билет стоит семь крон. Выйдя в мамином городе, она идет прямо к телефону-автомату, бросает в него еще три блестящих кроны и звонит домой.
— Ты уверена? — спрашивает мама, когда они сидят в машине.
Но Коре молчит. Уверенность, да где ее возьмешь.
* * *
Потом наступает затишье, ни звука из папиного царства. Он не требует ее возвращения, никого за ней не посылает. Но каждую ночь она ждет. Что за окном увидит кого-то, длинный тянущийся палец, он ковыряет и ковыряет ее плоть, ковыряет, пока не достанет из нее дымящееся сердце и не разломает его как фрукт.
Воспоминания об отце высосали у нее все силы. Закрывая глаза, она видит, как по вечерам он сидит у себя дома. Свет потушен, единственное, что освещает отца, — уличные фонари за окном.
Глаза сухие. «В одиночку от слез мало толку». Цилиндрический стакан. Всегда аккуратен с подставками, так чтобы на туалетном столике из Швейцарии не появилось круглых следов. Она помнит, как папа его купил и как гордился покупкой. Все, что он покупал потом, должно было сочетаться со столиком. Округлые двухместные диваны в тон, цвета темно-зеленого авокадо, картины бежевых, темно-коричневых, похожих зеленых, с вкраплениями бордового, оттенков. На стенах