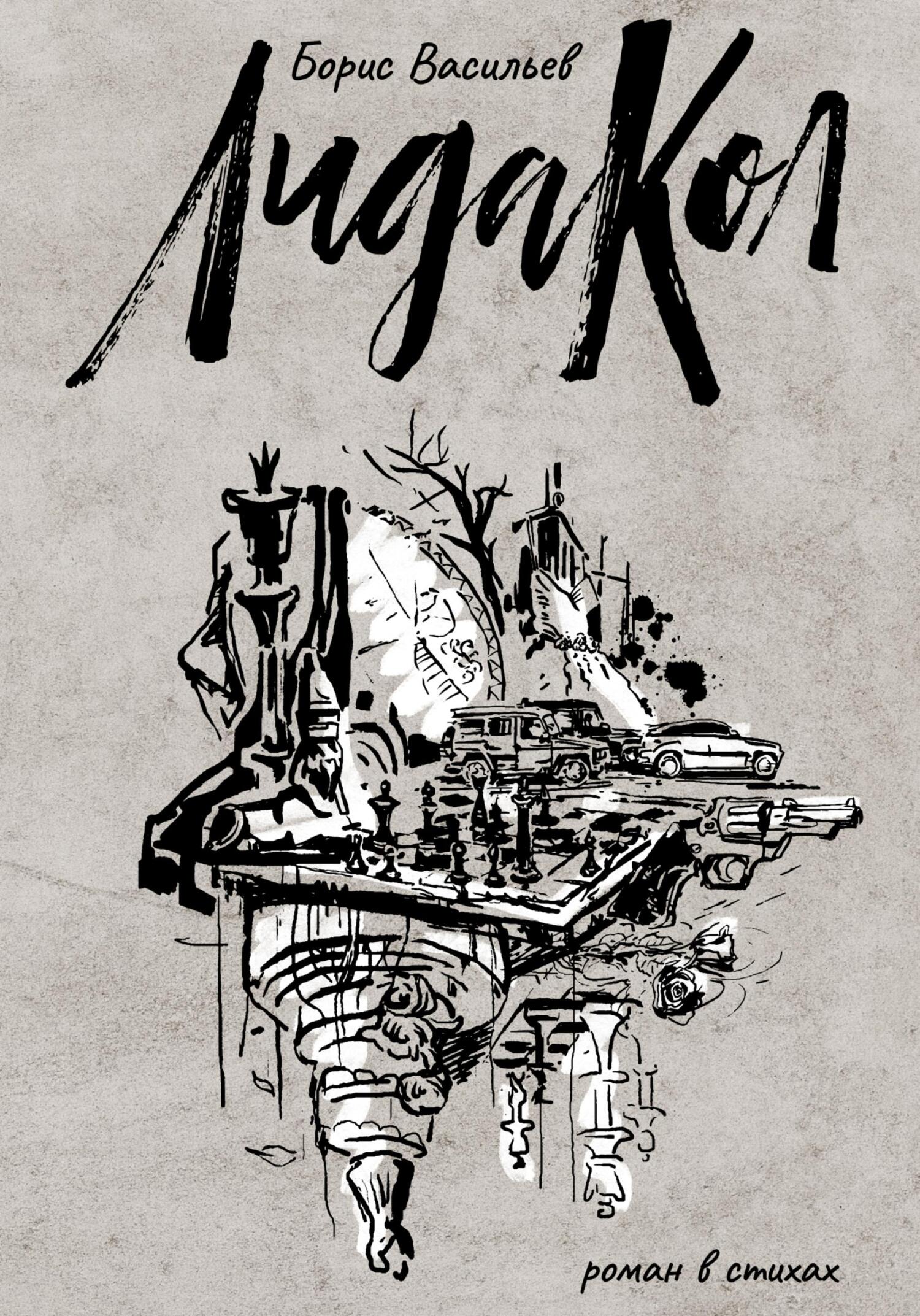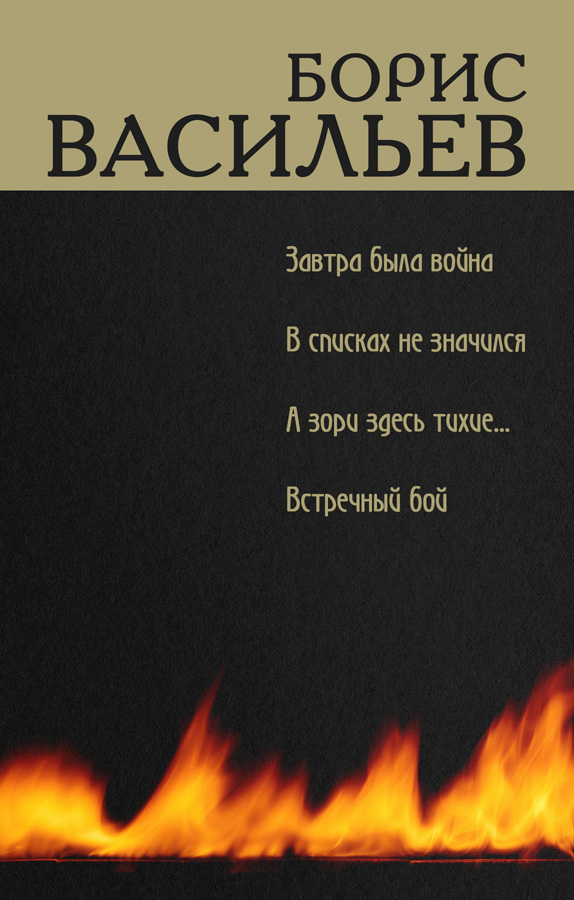да с горя и помер, едва старшую сестру мою замуж пристроив. Средняя сестра в монастырь послушницей-черноризкой ушла, без вклада, а матушка да младшая — на моей совести теперь. — Дорохов раскурил трубку, помолчал. — А коли уж до конца исповедь доводить, так сначала бокалы наполните. Потому как, боюсь, узнав всю правду, вы от меня на другую сторону улицы переходить станете.
— Вот уж и не думаю даже, Руфин Иванович, — говорю. — Я из тех русских, кои правды взыскуют, а не мифов, национальную самовлюбленность ласкающих.
Вино мы неторопливо пили, каждый о своем думал. Ну, Дорохов — понятно о чем, а я… Я не знаю, о чем думал. О том, пожалуй, что одиноки мы в толпе человеческой. Страшно, пугающе одиноки. Как пустынники в пустыне…
— Пенсион у батюшки невелик был, — неожиданно начал Руфин Иванович. — А после смерти его и невеликость сия вдвое уменьшилась, поскольку дочери законами не предусматриваются. Стало быть, моя очередь пришла содержать их достойно. А как? От офицерской карьеры высшей волею отлучен. В чиновники идти? Так там воровать придется, иначе концы с концами никак не сойдутся. И я, подумав да рассудив, иную профессию себе выбрал.
Вдруг замолчал и уперся в меня ставшим враз колючим, выжидающим взглядом.
— Какую же, Руфин Иванович? — спросил я, ни о чем не догадавшись, да, признаться, и не желая ни о чем догадываться.
— Я — профессиональный игрок, Олексин, — жестко, с вызовом сказал он. — Дурачков богатых обдираю беспощадно, как липку, на что и существую, и матушку с сестрой безбедно содержу. А теперь уходите, пока опять к барьеру не подошли.
Растерялся я? Да, пожалуй, нет: что-то внутри меня готовым к этому признанию оказалось. Но — встал, руку через стол протянул и сказал:
— Я не чистоплюй, Руфин Иванович, хоть и из состоятельных. И вот вам моя рука.
Дорохов рассмеялся с огромным облегчением, как мне показалось. И руку крепко мне пожал, и обнял крепко.
— Что-то в тебе есть, патриций. Не пойму, что, но сквозь шкуру собственную ты просвечиваешь. Почему я изо всех сил и старался шпагой ее лишь продырявить, чтобы только глубже куда не попасть!..
Ну, посидели мы тогда еще немного — Руфин Иванович уставать начал, и я это заметил, — допили вино под смех и шутки, и я даже решился вопрос, меня мучивший, ему задать:
— А почему вы, Руфин Иванович, тогда, на дуэли, с шестнадцати шагов потребовали обмена выстрелами?
— Что, сурово слишком?
— Сурово, — говорю.
— Проверить их решился, хоть и жестокой могла стать проверка. Но возмущен был, до крайности возмущен. Благородное выяснение отношений в балаган превратили, изо всех сил стараясь друг в друга не попасть. Ну, коли жалеете друг друга или вообще крови избегаете, так принесите взаимные извинения, и дело с концом. Зачем же публичная комедия сия?
— А коли бы пролилась кровь с шестнадцати-то шагов?
— Натура моя половинчатости не выносит, патриций. И очень я тогда, признаться, рассердился. И решил, помнится, настоящую проверку господам дуэлянтам учинить, подозревая, впрочем, что они и с двух шагов промахнуться готовы.
— Возможно, вы правы, — говорю.
Тепло мы с ним распрощались, и я ушел.
Пока до мазанки своей добрался, уже окончательно стемнело. Смутно вижу — вроде лошадь оседланная, а всадника что-то незаметно. Насторожился, шагнул…
Фигура от мазанки отделилась:
— Александр? Это Раевский. Где ты шляешься, когда нужен мне позарез?
— А что случилось, майор?
— Урсула взяли. Прямо в дубравах его…
…Дописал до этого места, уморился, признаться. Только «Записки» эти припрятать успел — матушка на пороге.
— Нежданный гость к тебе, Сашенька.
И входит — Пушкин. Бросился я к нему, обнял.
— Александр Сергеевич! Какими судьбами?
— Твоими, Сашка. — Расцеловались мы. — Как узнал, что тебя едва на дуэли не убили, так и приехал.
Осунувшийся, почерневший даже. И глаза напряженные. Таким и запомнил его: не пришлось нам больше свидеться…
Но мы с ним тогда часок славно посидели, Кишинев вспоминая. А потом он заторопился — путь-то неблизкий — и достает из кармана несколько не по-пушкински аккуратно сложенных листов.
— Надумал тебе подарить, Сашка. Но, извини, с условием, что не только вслух посторонним читать не будешь, но и спрячешь подальше. Это — «Андрей Шенье» со всеми строфами, полностью. Цензура сорок четыре стиха выбросила от «Приветствую тебя, мое светило!» до «Так буря мрачная минет!». Сорок четыре стиха четырьмя строками точек в печати заменили. Ну, а я подумал и решил тебе полный авторский экземпляр преподнести…
(Приписка на полях: …Рассудил я, любезные мои, что обязан включить в сей жизненный отчет свой полный список «Андрея Шенье», поскольку переплелся он с судьбою моею весьма причудливым и странным образом.)
АНДРЕЙ ШЕНЬЕ
Посвящено Н. Н. Раевскому
Ainsi, trist et captif, ma lyre toutefois S'eveillait…
(Так, когда я был печален и в заключении, моя лира все же пробуждалась…)
Меж тем как изумленный мир На урну Байрона взирает, И хору европейских лир Близ Данте тень его внимает, Зовет меня другая тень, Давно без песен, без рыданий С кровавой плахи в дни страданий Сошедшая в могильну сень.