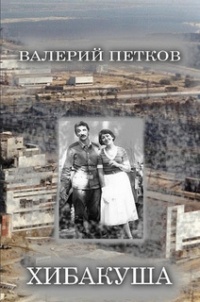Так он думает, пока варит чёрный кофе. Потом осторожно спускается по лестнице, стараясь не обжечься.
Окончательно просыпается от запаха кофе.
Приносит белую чашку. Горячую, ароматную. Ставит рядом с настольной лампой. Без сахара. Себе – одну ложечку тростникового, крупного, коричневого.
Улыбается.
Она просыпается и улыбается ему. Потягивается.
Утром самолёты беззвучно набирают высоту. Он видит их из окна кухни, стоя у плиты. Загружает мойку, стараясь не греметь посудой.
Идёт умываться.
Вечером самолёты вернутся. Низко над морем зайдут на посадку.
Аэропорт недалеко.
Он присаживается к компьютеру.
В ванной шумит вода.
Она прибирается в доме, читает, отгадывает судоку.
Они почти не разговаривают, но в этой тишине присутствует родной человек. Этого достаточно, чтобы молчать о главном.
Лишние слова особенно неуместны в браке.
В полдень выходят из дома.
Двухчасовая прогулка перед обедом.
Из Клонгриффина, мимо станции, идут к берегу.
Посёлок у моря тих, безлюден. Редкие авто на стоянках возле домов.
По дороге к морю слева большой парк, с внушительной каменной оградой. Параллельно берегу – сонная улица. Всякий раз они перестраховываются, берутся за руки, переходя на раундэбауте, круговом развороте. Непривычное правостороннее движение.
Звонко хлопочет стая скворцов.
Море видно издалека, но не каждый день. Оно уходит и возвращается. Но уже другое.
Он рассматривает донную грязь, ослепительно блестящую на солнце. И ёжится от студёного ветра.
Она надевает очки от солнца.
Он не любит затемнений.
Зеркало воды перевернулось, явилась тёмная изнанка, амальгама дна.
Дно обнажилось, неровное, бугристое, как голова, остриженная наголо.
Не всем это нравится.
Ржавая пустая коляска из маркета, поваленная набок, тёмная кроссовка, осколки керамики с рисунком, мелкий мусор, птицы какие-то безымянные, немногочисленные.
Пытается вспомнить: что за птицы?
Серые цапли, белые? Вальдшнепы? Канадские гуси? Краснозобая казарка?
Но не уверен.
Лишь нахальные чайки не вызывают сомнений. Большие. Про себя называет их – морские бройлеры.
Птицы ищут корм. В этом их жизнь.
Щурится от света, слепнет коротко, ночной птицей, летящей на солнце.
Понимает сейчас, что на том берегу гольф-клуб, а вовсе не чья-то богатая усадьба, как думалось прежде при взгляде из окна авто.
Красная кровля, белые стены разновеликих строений вписаны в холмы. Рядом деревья. Стоянка дорогих авто. Дальше – извилистые, ярко-зелёные языки лужаек. Он видит соревнующихся гольфистов.
Их заботят трава, погода и попадания в лунки. Море им сейчас не интересно. Оно для них привычно, не удивляет.
Они не сравнивают остров с большим кораблём.
Можно пройти по пологому дну пролива. Поболеть за игроков. Рассмотреть вблизи.
Они группой переползают по горбам полей, издалека похожие на многоногую сколопендру среди изумрудно-зелёной травы.
«С какой ноги встаёт сороконожка по утрам?»
Дойти? Если бы не грязь. А потом? Ждать отлива? Как долго?
Скорость пешехода позволяет ему делать мелкие открытия.
Что же сейчас – отлив или прилив? Есть русло, смена воды и движение, значит, не болото. Хотя грязи много.
Через полчаса ясно – отлив.
Дальше бирюзовая, а ближе к горизонту тёмная, почти чёрная вода. Плещется. Лёгкая волна.
Возле т-образного перекрёстка протестантская церковь. Высокая. Старинная. Серой глыбой. Без признаков жизни. Главный вход закрыт. Листок – просьба входить через боковой придел.
Каменный крест наверху покрыт изжелта-зелёной накипью мха.
На набережной следы собачьего выгула, мусорные ящики переполнены пакетами.
Надо зорко вглядываться в серую поверхность бетона под ногами, чтобы не вляпаться.
На лужайке в кружок сидят школьницы в форме христианского колледжа – белые блузки, юбки в зелёно-красную клетку, колготки монашеские, плотные, серые. Всё на вырост, неуклюжее. Местами по-детски замусоленное.
Подкрепляются фаст-фудом из гремучих пластмассовых контейнеров, смеются. Говорят громко, на английском.
Пахнет майонезом.
Проходят мимо них.
Присаживаются по очереди на старую лавочку. Фотографируют друг друга мобильником. На фоне недалёкого острова справа, бело-голубого парома. Кажется, сейчас он соскользнёт в пространство горизонта. Плоский и высокий, цветной открыткой в почтовый ящик Посейдона.
С этой точки.
Паром плавно исчезает за островом, похожим на корму ковчега.
– Вспомнил. Камера щёлкает, будто сосед цвиркает дырявым зубом. Там, в санатории. В феврале.
Он осторожно берёт у неё мобильник.
– Должно быть, это неприятно, – говорит она.
– Стоило больших усилий, чтобы не поскандалить. Три недели в одной палате. Процедуры, столовая… С возрастом привычки начинают тобой руководить. Властно. Не всегда смысл и жизнь совпадают. А сейчас – встаём. Надо идти, ветер беспокоит. Боюсь застудить спину.
Он распрямляется постепенно.
Убыстряют шаг.
– Гулять надо энергично, чтобы сжечь больше калорий! – говорит она.
– Когтями орлиными ветер хищно срывает кровлю, – декламирует он.
– Когтями?
– Почему когтями? Потому что ветер студёный, хищный, неласковый. Или так – черепаховый панцирь крыш… черепичных. Нет, это сложней.
Машины проносятся. Редкие прохожие навстречу. Здесь предпочитают авто.
Приветствуют радостно, улыбаются. В основном пожилые люди.
– Несколько раз пройдёшься по району, и начинают здороваться. Что-то деревенское в этом. Лично меня это роднит с ними. Знаю, тебе не нравится слово «родня», но оно очень точное. Сначала думал, здороваются все. Так принято. Позже понял – только ирландцы. Иностранцы отворачиваются, их можно узнать по лицам. Хмурятся, делают вид, что не замечают тебя вовсе, словно боятся, что выдашь их главную тайну. Хотя и так видно за версту – пришлые, озабоченные, хмурые люди. Не успевшие узнать в детстве обычные радости. Пожизненно угрюмые.
Метёлки редких невысоких пальм вдоль берега. Стволы серые, искривлённые ветрами, неопрятные шелушащейся слоновьей кожей.
Справа невысокие горы. На вершине ретранслятор, по склонам жёлтый дрок цветёт пышными букетами. Белыми вкраплениями – пасущиеся бараны.