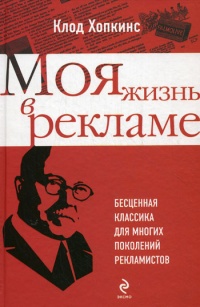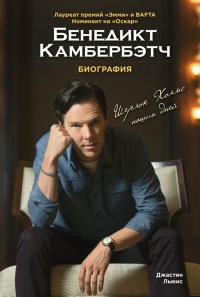Премьера «Юлия Цезаря» – и по сей день самое заметное лондонское выступление Хопкинса – оказалась менее чем благоприятной. Пикапу, сыгравшему Октавия Цезаря, понравилось работать, и он оценил Андерсона как «чувствительного, новаторского и ошеломляющего, великого и вместе с тем деликатного наставника для неуверенных в себе актеров». Однако фактически все важные рецензии обрушились с резкой критикой на режиссера и на его подход к пьесе. Ему вменялись различные обвинения, начиная с того, что его работа «граничит с банальностью», и заканчивая тем, что он просто «разочаровал». Газета «Times» особенно пеняла на «неформальность» андерсоновского Шекспира, и это настолько привело в бешенство режиссера, что тот отреагировал в печати словесной перепалкой, о которой впоследствии сожалел. «Ты узнаешь в процессе, что британский театр, а главным образом критики сегодняшнего дня, включая светил шестидесятых, требуют консервативного толкования Шекспира. Есть неприкосновенная традиция, которую я лично не принимаю, но она есть. Участие в словесной войне со СМИ – пустая трата времени. Но я считал, что они были несправедливы к нам, поэтому я давал сдачи». Пикап выразился так: «Линдсей, безусловно, обиделся, поэтому никого не удивил тот факт, что он отбивался в такой злющей манере. Но на самом деле это не имело особого значения. Скандал лишь привлек к нам внимание, и мы играли с аншлагом в течение нескольких недель».
В январе 1965-го на вечеринке по поводу окончания сезона спектакля Хопкинс, по словам Андерсона, прилично напился. Он подружился со многими актерами из труппы, но также нажил себе врагов. Питер Гилл рассказывает: «Когда он пропускал пару стаканчиков, он выбалтывал свои амбициозные планы. Те, кто его мало знал, думали, что он слишком многое о себе возомнил, что у него огромное эго и что по сути он еще ничего стоящего не добился. Другие актеры негодовали из-за этого». Как бы то ни было, среди его друзей значилась одна молодая актриса, которую Хопкинс считал безумно привлекательной. Ей было всего 22 года – бывшая участница театральной труппы «ВВС». Хопкинс виделся с ней и раньше, тогда ей было 18 и она восстанавливала силы после операции при аппендиците, пребывая с другом в отеле в Уэльсе. Также они недолго виделись на занятиях по танцам. Ее отец – известный актер-комик Эрик Баркер, мать – Перл Хэкни. В «Юлии Цезаре» Петронелла (Пета) Баркер была занята лишь в массовке, но Хопкинсу понравился ее томный, сексуальный взгляд, соблазнительная фигура и приземленность. Она унаследовала от отца яркое остроумие, громко хохотала, и, по словам Гилла, «в ней мгновенно просыпался дух неповиновения, который так привлекал Тони». Они болтали, опрокидывали по паре стаканчиков (в случае с Петой – это были легкие напитки), а затем началось постепенное выведывание секретов из жизней друг друга.
Страстно увлеченная с момента их первой встречи в Уэльсе, Пета Баркер считала Хопкинса удачной партией, очень красивым и очень добрым. Особенно ее расположили к себе его пьяные попытки пошутить. Единственной проблемой, по ее воспоминаниям, была их обоюдная застенчивость, что, скорее всего, делало их союз маловероятным.
В этих первых беседах Пета никогда не слышала о его феерических амбициях. Для нее Хопкинс был просто блестящим молодым актером, который выполнял свою работу и был признателен за трудоустройство. Однако с Линдсеем Андерсоном он был более откровенен: «На прощальном вечере Тони поведал о том, что он хотел делать дальше и кем стать в будущем. Он рассказал нам, что будет добиваться больших ролей и съемок в кино. Мы пожали друг другу руки, обменялись любезностями и продолжили свой кочевой путь в разных направлениях, как и предполагает театр». Андерсон подозревал, что вскоре вновь увидит Хопкинса, разумеется, что снова будет с ним работать, – это случится год спустя, когда режиссер возьмет его на небольшую роль в своем сатирическом короткометражном фильме «Белый автобус» («The White Bus») по сценарию Шелы Делани. Пета Баркер тоже надеялась, что ей посчастливится вновь встретиться с молодым актером.
Хопкинс, полный энтузиазма, вернулся к Скейсу и к дождливым улицам Ливерпуля. Тактически «Ройал-Корт» стал хорошим ходом: он снискал ему необходимое внимание и принес глубокую дружбу с Петой Баркер. Но ему хотелось большего. Сейчас он был счастливее, чем когда-либо со времен Ноттингема, обуздывая свою любовь к выпивке в свете своего карьерного продвижения и отсутствия эксцентричных ребят, Райала и Генри, хотя по-прежнему получал удовольствие от вечерней кружки пива в кабаке «Don Shebeen» или томика Шекспира на Уильямсон-сквер. Линда Ла Плант, сейчас почитаемая писательница и сценаристка, а тогда – коллега, наслаждалась его обществом, так же как и актриса Маджори Йейтс. Ее мама была в полном восторге от Хопкинса и, как говорит Йейтс, частенько могла разразиться слезами, когда он заходил в их квартиру на Фолкнер-стрит и шпарил сентиментальные кабачные песенки на угловом рояле. «Только не думайте, что он стал каким-нибудь тюфяком, – говорит Джин Бот. – В драмтеатре он все еще давал прикурить Дэвиду Скейсу. Он рьяно защищал то, во что верил. Дэвид, разумеется, был очень хорошо осведомлен и знал точно, чего он хочет. В общем, они продолжили конфликтовать. В этих случаях голос Тони приобретал совершенно новый, шокирующий размах».
Результатом скорого воплощения страстного желания Хопкинса – скрытого от Петы Баркер – стало то, что он, как Джин Бот, прикрепился к лондонскому агентскому представительству. «Речь идет о „Heymans“ – главном международном актерском агентстве, – говорит Бот. – Но мы были мелкой рыбешкой. В „Heymans“ значились такие люди, как Элизабет Тэйлор и множество тех, кого мы сегодня называем мегазвездами. Мы с Тони строили большие планы, но, боюсь, никаких чудес в наших карьерах не последовало».
Течение театральной жизни, казалось, изменится с приездом режиссера Билла Гаскилла из новой труппы «Национального театра» – «вершины холма», по словам Бот, – который сопровождался тщательным отбором актеров для второго сезона Лоуренса Оливье в Чичестере. Бот вспоминает:
«Невероятное воодушевление. Национальный театр! Оливье! Это максимум, к которому мы все стремились. Но, честное слово, каждый в нашей труппе с таким благоговением относился к Хопкинсу, что всем действительно хотелось узнать, какую же роль получит он. Не было никаких сомнений, что он стоял на пороге какого-то грандиозного прорыва в театральном искусстве. И он сам в это верил. Он не был самодовольным, но он гордился собой, и, когда приехал Гаскилл, мы все почувствовали то, что чувствовал Тони: вот оно! В общем, некоторых из нас предупредили о том, что нам достанется, но все постоянно спрашивали Тони: „Ну что? Что у тебя?“».
А Хопкинс подыгрывал своим болельщикам, рассказывая однокашникам: «Мои агенты в Лондоне ведут переговоры с людьми из „Национального“. Пока еще ничего не решено, но вот-вот все разрешится». Бот, как и остальные, трепетала. «Ощущение складывалось такое, что он находится в ожидании чего-то невероятного. Нам всем до смерти хотелось выяснить подробности».
По мере того как проходили дни и недели, Хопкинс становился все более угрюмым и замкнутым. Он избегал Бот, избегал всех разговоров в коридорах, крепче пил. Наконец, когда его надежды истлели, он, после очередного выступления, предстал перед всей труппой в артистическом фойе.