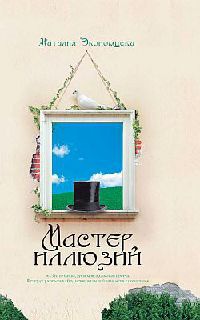Но в предпоследний момент учитель рывком отлепляет взмокший под рубашкой живот и мелким бесом бежит к столу; выхватывает из стопки листок и в волнении, с вздымающейся грудью и неровным дыханием, быстро читает: «Милая мама, сегодня опять я открыл Вам звезду и назвал Вашим именем, это произошло не преднамеренно, но случайно, я взглянул в небо и ужаснулся, она была так прекрасна, сияла так ярко, открыто на небосводе, что я подвергся смятению, почему же она, скажите на милость, никому не хотела отдаться и выбор пал на меня, — это загадка, достойная разрешения…» Как перегревшийся паровоз, соплю, остываю. Я человек вполне светский, поэтому не выпаливаю ему, что нет ничего пошлее цветочного городка и благоухающей бюргерской мамы, вместо этого, еще задыхаясь, я спрашиваю: «Почему же вы… написали… опять… хер учитель? Вы что… каждый день… новые звезды… ей открываете?»
Учитель хватается за голову и, гонимый отчаянием, запускает влажные пальцы в слипшиеся волосы. «Фройлен изволит шутить! — в тоске восклицает он. — Это такая редкость, поверьте! Звезды заносчивы и капризны! Все получается невзначай! Astra inclinant, non necessitant![2]Впрочем, что толковать, вы лучше послушайте…» Немец шебуршит в груде бумаг, выхватывает следующее письмо, подносит его к глазам; капельки пота скатываются на листок, плывут слившиеся слова. Учитель вытирает лицо рукавом и, разбирая кляксы, читает: «Милая, милая мама. Сегодня я устал и решил отправиться спать раньше обычного, то есть после назначенной встречи с Вами, но, посмотрев мельком в телескоп, я вдруг увидел невиданную до меня, девичью звезду, немного правее созвездия Каракатицы, которой раньше, представьте, не замечал. Впредь буду внимательнее, хотя не уверен, принесет ли это желанные результаты, возможно, усердие будет пагубным, спугнет, приведя к обратному. Тут есть какая-то тайна, разгадку которой почитаю своим долгом…»
Некоторое время учитель стоит молча, как бы в печали склонив голову, но я вижу, как ходят набухшие желваки. Он медленно поднимает шальные, налитые кровью глаза; смотрит тяжело и в упор. «Я угадал причину вашего столь позднего посещения, — тихим дрожащим голосом говорит он. — Вы грязная развратная сучка. Ваш бедный отец и ваша бедная мать, которые наделяют вас столь высоким доверием… О! Если бы они только знали! Это знание убило бы их! — его губы мелко трясутся. — Я официально хочу вас уведомить, что впредь отказываюсь от чести быть вашим другом и вашим учителем. Я презираю вас. Подите же вон!»
Звонок в кремль
И вот — почти еще ночь, раннее утро того же дня. Выскользнув из флигеля, пробираюсь к своей призрачной галерее. Издалека, откуда-то — из столовой? — доносятся голоса. На цыпочках подкрадываюсь поближе; прикрывшись тяжелой портьерой, не дыша замираю, смотрю в щелочку, слушаю. Только что увезенный бойцами спецназа отец с заткнутой за воротник накрахмаленной белой салфеткой восседает в торце гигантского обеденного стола; перед ним — тарелка крутых яиц, которые он, одно за другим, чавкая напоказ, с жадностью поедает. «Простите, мадам, проголодался, там меня плохо кормили». Он вскакивает, щелкает каблуками, касаясь двойным подбородком пухлой груди; за ним громыхает опрокинутый стул. Лакей бросается поднимать, подставляет, отец снова садится.
Он тычет яйцом в соль и хоп — целиком отправляет в рот. Мать стоит в кисейной ночной сорочке и, прислонившись к дверной фрамуге, зябко кутается в шаль. «И все-таки вы не там, все-таки вы здесь», — поеживаясь от бьющего в спину озноба, говорит она. Отец (в процессе прожевывания): «Не было ничего проще, мадам. Из желтого дома я напрямик звоню в Кремль. Они туда-сюда, никак не рубят, в чем дело, бросаются сообщать „самому“, бьют пустую тревогу. Я говорю: вы что там, ребята, за вашей стеной, совсем от стада отбились? Вам что, непонятно, что я в дурдоме? Блин, говорю, спящее царство, проснитесь, быстрый звонок оттуда сюда и машину! Ну, ребята пришли в себя, перестали маячить, видят, не дело — дрянь. Звонят „лечащему“ врачу и очень его расстраивают. Тот прибегает — в белом халате, весь белый — бросается в ноги, мы ничего, говорит, не знали, вас спецназ к нам доставил, у нас же инструкции… не погубите, мил человек, дети, семья… ну и так далее. И вообразите, мадам, из-за этого трепетного базара я забываю про отнятый пистолет! Напрочь забываю про пистолет! Вот незадача!» Отец запихивает в рот два яйца, смачно отрыгивает. «Господи, я же просила не подпускать вас к телефону», — вздрагивая плечами, говорит моя мать. «Ха-ха…» — выдавливает отец с набитым яйцами ртом.
Мои родители друг с другом на «вы». Это необходимый буфер — дистанция вытянутой руки. Она исключает ту близость, что и есть «общий наш дом», по которому они бродят как тени, не находя себе ни места, ни применения.
Последний скандал
Мать слабеет и тает, уменьшаясь в размерах, но толком сказать, что все-таки с ней, пока что никто не может. Глаза прошлогодней утопленницы затуманились и потухли, в них — водянистая муть, прикрытая поволокой. Отец же — ровно напротив. После визита в психушку, пораскинув оставшимися мозгами, он сел на чудовищные колеса, в две-три недели загнавшие в непроглядную даль призраков отцовской души. Отец пуще прежнего разжирел и распух, уподобившись бесформенной массе, которая, почти примиренная, шлепает по гулкому дому, наводя на его обитателей уже не мистический ужас, а томительную тоску.
«Я родила вам дочь, — говорит мать тихим и слабым голосом во время очередного и, как оказалось потом, последнего их скандала, — и, заметьте, с тех самых пор не совершила в ее воспитании ни единой ошибки». Моя шизанутая мать отчего-то считает, что причислена к миру, где рожают и воспитывают детей или, во всяком случае, без зазрения совести рассуждают об этом. «Извольте, мадам… — отец, расползаясь по форме кресла, медленно раскуривает сигару. — Хотя „с тех самых пор“, то есть после рождения вашей, мадам, дочери, вы так удачно начали избегать погрешностей и ошибок, нисколько не исключено, что вы совершали их до предполагаемого рождения». — «Вы смеете допускать…» — мать нащупывает стакан и наливает воды, вода плещется через край, растекаясь прозрачной лужицей. «Как бы я смел, мадам…» — отец выпускает клубы дыма, по-волчьи воздевая лицо. Мать звонит в серебряный колокольчик. В наколке, переднике и мелкой, не прикрывающей задницы юбке является Глаша. «Милочка, я тут разлила немного», — мать бестолково переставляет предметы с места на место, будто раскладывая пасьянс. Роняет стакан, который брызжет во все стороны водяной пылью и кристаллическим мелким крошевом. Глаша, повернувшись спиной к отцу, достает из передника тряпку, выпячивает оголенный зад и начинает мерно тереть низенький столик.
Отец смотрит на тлеющий кончик сигары. «Как бы я смел, мадам, допускать в вас нечто реальное, если угодно, назовите это „изменой“? Вы потеряли всякий контакт с элементарной действительностью. Вы издавна пребываете в том избыточном мире, который к природе вещей и простых человеческих отношений никак не относится. Детей, мадам, кормят вульгарнейшим грудным молоком, а не божественным эликсиром, как вам это, видимо, представляется». — «Ваша скромность и ваш ублюдочный аскетизм достойны всякого уважения, но, если я правильно понимаю, вы попрекаете излишествами меня, которая только их и считает необходимостью?» Мать хватает чистый стакан, поставленный Глашей, и выпивает из него пустоту маленькими спазматическими глоточками. «Я попрекаю вас вашими связями, знания о которых не могу больше от вас скрывать! Факты, мадам, вопиют!» — отец истерически расплющивает сигару в массивной малахитовой пепельнице, безрезультатно пытаясь встать. «Ваша чудовищная любезность меня изматывает, — когда-то зеленые, русалочьи глаза моей матери брезгливо сужаются. — Вы трус и пошляк, в вас не было смелости говорить со мною, что же с того, нужды нет — теперь вы воюете с привидением». Глаша, на карачках подбирающая осколки, победоносно нацеливает на отца внушительный зад.