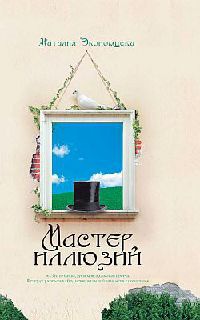Выслушав невнятный рассказ о том, что стены отцовского кабинета, а паче спальни, имеют обыкновение заходиться кровью и что бурые кровяные подтеки ничем нельзя смыть, кроме как мылом да усердным молением, доктор сказал, что нечто похожее от пациентов он уже слышал и что случаи подобного рода удвоились за последнее время чуть ли не втрое, что обычно бывает во времена смутные и пустые, которыми так богата наша история. Они хватанули медицинского спирта из шкафчика, посудачили о том и о сем, затронув тему низкой рождаемости, грозящей слитием русских в планктон, которому предстоит стать кормом для племенных инородцев, после чего поднабравшийся врач взял да и отпутил отца восвояси. Церкви отец не построил и все твердил, что в нашем проклятом доме она не выстоит, что церкви нужен другой дом. Вскоре мы переехали.
Ночной полет
И вот теперь я лежу в новом доме и сквозь сон слышу, как отец крадется вдоль западной галереи. Осторожно скрипят половицы, с тихим стоном приотворяются двери. В темноте, с горящими, как у шайтана, глазами, отец проскальзывает ко мне в спальню. Шарит рукой, продвигаясь вслепую. Постепенно из невидимой пустоты навстречу ему выплывают слабые очертания; потом под серыми парусами выплываю и я на постели. Отец наклоняется надо мной, и я вижу его белое пронзительное лицо. «За нами пришли, нас ждут, одевайся, — деловито нашептывает он, — сначала скафандр, потом ботинки, надо спешить… быстрее… быстрее…»
Поднаторевшая за годы, прожитые в семье, моя бдительность еще не вполне проснулась, — и отцу удается нахлобучить мне на голову пакет из прозрачного целлофана, обвязав его вокруг шеи. Рывком сажусь на постели и вижу себя в черном зеркале с прекомично выпученными глазами. От натужного дыхания пакет то раздувается в шар, то пленкой липнет к лицу. «Здесь все уже кончено, топь и погибель, хаос и мрак, это последний шанс, и мы улетаем, — скороговоркой выпаливает отец, схватив меня за руки. — Ничего с собой не берешь, там ничего не нужно, и только строгость и стройность твоей души». В голове у меня мутится. Извиваюсь змеей, пытаюсь вырваться, но у него мертвая хватка. Тогда я беру отца последней, ослабевающей хитростью — тихну и замираю, задерживаю трепыхающееся дыхание. Железные клещи мякнут и, наконец, отпускают. В этот момент сознание меркнет, и я тихо куда-то отчаливаю.
Когда прихожу в себя, легкая бесцветная занавеска порхает по комнате, и ночная прохлада, беспрепятственно проникая из парка, обдает меня целительной свежестью. Бесплотный, почти прозрачный, разжиженный какой-то, отец маячит в ногах постели, и я начинаю слышать, как гулко, издалека, словно с другого конца медного мира, он говорит: «… Там, как и в природе, — ничего лишнего, все последовательно и просто: ночью сменяется день, но вот уже гаснут, падая, звезды, и зарево нового дня полыхает над миром, и я говорю ему: Здравствуй! Я твой! Ну же, возьми меня! Вознеси меня, — он потрясает разверзнутыми в небеса, насквозь искрящимися ладонями, — над муравейником скорби, чтобы я плюнул на него с высоты и чтобы в моем гигантском плевке захлебнулась вся мразь, алкающая излишеств и наслаждения…» Подобные речи отца (не считая плевка, ставшего нововведением) я уже слышала. Повторяемость меня утомляет. К тому же ненормально хочется спать, и я опять куда-то проваливаюсь. «Папа, перестань дурачиться, — заплетающимся языком говорю я, — все давно спят, иди и ты спать». — «Покой нам только снится», — как-то неуверенно возражает отец и, ретируясь вон из комнаты задом, медленно прикрывает за собой дверь.
К звездам
Итак, мой план потерять невинность с немцем-учителем разбивается о бессонницу сбрендившего отца, безустанно шатающегося по дому. И — о! Наконец-то! Ура! После неудачной попытки отца пристрелить ровно в полночь «исчадие ада» — любимую мамину собачонку Фифи, мерзкую, бессмысленную болонку с гноящимися глазами, — мама опять отправляет отца в дурдом. Прибывает бригада из шести человек в пуленепробиваемых жилетах, так как отец яро отстреливается и благим матом орет, что живым никому в руки не дастся. После неравной борьбы его наконец скручивают. Мама хватает болонку на руки и прижимает к впалой груди. Паника, переполох — трепаная служба шныряет по этажам в одном исподнем. Пользуясь неразберихой, я выскальзываю из дома и пробираюсь во флигель, где ничего не знают и спят.
Дорога во флигель ведет через парк, но я крадусь менее опасным путем, вдоль каменной трехметровой стены, отделяющей нас от мира. Во флигеле — тоскливо, уединенно — живут заточенные учителя. Столуются вместе со службой, а если хотят отлучиться в город, должны испросить особое разрешение. Износился ль картуз, прохудилась ли обувь — отец визирует пропуска. Из нашего парка на ту сторону жизни муха не пролетит. Что ж говорить об обратном. Согласно подписанному контракту, «учителям не позволяется» принимать кого бы то ни было на «территории». Хотя, судя по защитным кордонам, дублирующим ограду, это вовсе не «территория», а полигон, на котором идут испытания невиданного по силе посттермоядерного оружия.
Охранник в стеклянной будке у входа во флигель, опрокинув бритую голову на мускулистую, массивную грудь, неспокойно и тяжко спит. Капельки пота струятся по подбородку, стекают по шее за воротник; охранник ворочает головой и заунывно, тоскливо стонет. Я проползаю мимо него по лежалой осенней листве, бьющей в нос запахом прелой больной плесени. Духота поднимается от земли, повисая тяжелым лиловым облаком.
Немец стоит у распахнутого окна, уставившись в телескоп. «Здравствуйте, хер учитель», — говорю по-немецки. — «Не согласились бы вы помочь мне в одном личном, не относящемся к нашим занятиям деле?» — «Здравствуйте, фройлен, — не оборачиваясь, говорит учитель, — подойдите, подойдите сюда». Он отрывается от глазка, подгоняет меня рукой, подталкивая к трубе. «Вы видите эту звезду? Да нет, не ту, а эту, вот эту, что беспрестанно мигает?» Немец с раздражением тычет пальцем в небо. Действительно, какая-то крошечная звезда, стянутая в едва заметную точку, мигает, как испорченный семафор.
Учитель пристраивается за мной, надавливая тугим животом и тем, что в подбрюшье, немного ниже. Он жарко и шумно дышит мне в ухо, он говорит: «Фройлен, вы не поверите, я ее сегодня открыл. Per aspera ad astra[1]». Весомость того, что тычется сзади, убеждает меня, поэтому я и не думаю вырываться, замираю. «Я дал ей имя „Звезда фрау Гретхен“», — взволнованно, знойно, щека к щеке шепчет учитель, пытаясь одновременно со мной заглянуть в маленькое оптическое отверстие. «Гретхен — так зовут мою мать. Она живет в опрятном маленьком городке. О, вы не были в ее городке! Там столько цветов, фройлен, везде цветы, а цветы так похожи на звезды!» Немец бесцеремонно, точно бурый осел, лезет со стороны тыла, лапает где попало и напирает. Чтобы не повалиться, хватаюсь за телескоп руками. «В каждую полночь, сколько уж лет, что мы с мамой не вместе, оба в договоренный час, мама и я, мы смотрим на условленную звезду и думаем друг о друге, посылая ночной привет…» Извиваясь, как мартовская весенняя кошка, трусь об учителя влажной гибкой спиной. «…А потом я сажусь и пишу ей письмо. Перед вашим приходом как раз и закончил, вот, только послушайте…» Горячая безудержная волна поднимается высоко, к самой макушке, еще чуть-чуть, мой милый желанный шофер, — и я полечу, о, пусть хоть так, от твоего волшебного прикосновения…