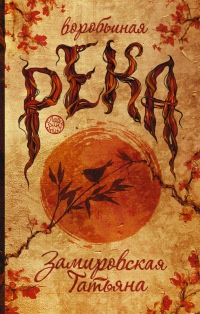Интересно, что было бы, если бы я зарабатывал столько, сколько он, а то и больше – в сто, в тысячу раз больше? Черта с два я бы замуровал себя в такой глуши, как эта, делал вид, будто я такой тихоня, такой безропотный, добренький, почтительный и будто меня страшно волнует чужое благополучие. Черта с два я бы жертвовал деньги какому-то старому гуру, плясал под дудку чокнутой немки лет под сорок, чистил на январском морозе снег какому-то лысому слюнтяю, любителю инжира. Нет уж, будь у меня такая возможность, я бы развернулся: вылезал бы за нотные линейки и жил вольготно, как римский император или рок-звезда семидесятых, откалывал бы самые невероятные штуки. Соблазнял бы девчонок и тут же их бросал, чтобы соблазнять других, набирал в свою свиту людей и гнал их в шею, как только с ними станет скучно, покупал все, что понравится, и выбрасывал, как только разонравится или надоест: машины, бассейны, дома в самых разных стилях и в самых разных местах, целые острова; путешествовал бы по свету то на волне любопытства, то скуки. Не признавал бы доводов разума, чувства долга и меры, не отличался бы трезвостью, спокойствием, скромностью, тактичностью, почтительностью, не прикидывался бы милым, внимательным, благоразумным, никогда и ни в чем бы себя не ограничивал, не беспокоился бы о том, насколько меня хватит и к чему это приведет.
Уто Дродемберг – Уто Грозный. Циничный, блестящий, быстрый, нетерпеливый. Ледогонъ. Вершинопропастъ. Поди-угоди. Змеймедович. Задериподол. Крушиломай. Двестидвадцать в час. Не-разумный. Не-надежный. Не-осмотрительный. А еще, когда вздумается, он делает широкие жесты. Дорогие подарки ради прекрасных глаз. Все поражены, никто не ожидал. К его лимузину, остановившемуся на светофоре, с умоляющим видом подходит араб, мойщик стекол, и Уто Дродемберг вылезает из своего лимузина, отдает ключи арабу, говорит: «Дарю, машина твоя». Араб бледнеет, он ничего не понимает, он и машину-то не умеет водить, у него не только водительских прав нет, но и права на жительство, на дороге образуется пробка, задние машины начинают гудеть. Уто Дродемберг удаляется с самым беззаботным видом. Всеобщее внимание, обращенное ему вслед, придает невероятную значительность каждому его шагу, делает Уто Дродемберга легендарной личностью. Уто Дродемберг, который тратит миллиарды на покупку рекламного времени на телевидении, чтобы крутить рекламные ролики, призывающие не покупать ничего из рекламируемых товаров. Телевизионные компании, которые отказываются передавать эти ролики. Уто Дродемберг, который покупает телевизионный канал с единственной целью – передавать антирекламу. Правительство, которое посылает армию, чтобы закрыть канал. Уто Дродемберг, который создает собственную армию и объявляет войну государству. Или так: он в одиночку, безоружный, идет против вооруженной до зубов армии. Весь в белом, он простирает руки навстречу винтовкам и автоматам, нацеленный на него, и никто не осмеливается спустить курок. Солдаты бросают оружие, плачут. Уто Дродемберг, который кладет конец гражданской войне в бывшей Югославии, играет Моцарта на демаркационной линии, и все плачут и бросают оружие. Он идет впереди, и ореол святости делает его неуязвимым. Это сияние, этот свет вокруг него как бы сродни свету на театральной сцене, но театр тут ни при чем, это жизнь, одно из ее проявлений, настолько действующее на людей, что лишает их дара речи. Глубоко волнует их. Потом ему все надоедает, и он, купив необитаемый остров, отправляется туда и везет с собой сто самых красивых девушек в мире. Девушки носят его в паланкине и обмахивают пальмовыми ветками. Бесконечные оргии с утра до вечера.
Вместо этого я рыскал по дому Фолетти, как голодный щенок, я искал на загнутых страницах книг и в предметах на полках что-нибудь достойное интереса, искал противоядие страху пустоты, ощущению, что теряю собственное «я», скуке, состоянию пленника.
Я увидел альбомы с фотографиями, на каждом корешке написан год, страницы аккуратно переложены прозрачными прокладками – тоже наверняка работа Марианны. Марианна Фолетги возле мотоцикла, чуть более полная, чем теперь, волосы чуть пышнее. В одной руке – шлем, другая лежит на седле. Внизу подпись: «Глен-Лаглан, 1990».
Витторио и Марианна Фолетти в лодке на озере. Небрежно смотрят в объектив, но все равно видно, как они довольны собой в эту минуту. «Лох-Несс, 1990».
Я снимал с полки альбом, смотрел одну-две фотографии, не больше, ставил альбом на место и брал другой, открывал наудачу и снова закрывал. Я прикасался к истории семейства Фолетти, но в моем распоряжении были лишь обрывки информации, так что для меня в их истории по-прежнему оставалось больше неизвестного, чем известного. Как ни странно, у меня появилось ощущение усталости, мне не хватало воздуха.
Витторио, Марианна и Джеф-Джузеппе позируют на фоне джонки. Джеф-Джузеппе ростом вполовину меньше, чем сейчас, а лицо такое же, «Бангкок, 1991».
Витторио на лыжах с ружьем в руках, лицо более гладкое, чем теперь, волосы темнее, одет в меховую куртку. Фотография плохая, краски выцвели: коричневый цвет превратился в серый, желтый тоже, красный расплылся. «Охотник. Позор! 1982 или 83».
Марианна в голубом бикини на пляже, совсем еще молоденькая. Довольно сексуальная, несмотря на худощавость, под гладкой кожей угадываются косточки. Голубое море. На заднем плане другие девушки, улыбающиеся во весь рот парни. «Гидра, 1978».
Витторио на открытии выставки, худой, с длинными висками, в окружении девушек в коротких юбках, длинноволосых мужчин в узких пиджаках и пожилых дам. «The Struggling Young Artist. Париж, 1969».
Марианна, Джеф-Джузеппе и Джино, еще щенок, у всей троицы из-за того, что снимали со вспышкой, красные глаза, как у подопытных кроликов. «Мирбург, Рождество 91 г.».
Маленькая Нина за руку с Витторио, еще полненькая, задолго до своей анорексии. И задолго до Марианны, в то время, когда Витторио думать не думал о строительстве счастья бок о бок со святым гуру в снежной пустыне штата Коннектикут. «Образцовый отец. Милан, 1987».
Каждая фотография, какую ни возьми, напрашивалась на издевательские комментарии, но мне они почему-то не приходили в голову. Я чувствовал все большую усталость, она возрастала с каждым новым снимком, это напоминало бессмысленную погоню, заведомо обреченную на неудачу.
Я поставил последний альбом на место – хватит, насмотрелся. Я спрашивал себя, как это люди умудряются быть такими организованными, так трястись над историей собственной жизни, пребывать в полной уверенности, что знают свое прошлое не хуже, чем пространство от стены до стены, от угла до угла, от пола до потолка.
Направо – комната Нины. Запах жвачки. Тряпичные и фарфоровые куклы. Беспорядочно разбросанная одежда. Шкатулки и шкатулочки, баночки. На стенах Нинины фотографии в разном возрасте. С матерью – черноволосой, кудрявой, так не похожей на Марианну. С отцом. С друзьями. Открытки. Слова песни, переписанные от руки. Афиша какого-то певца. Фотография гуру. Фотография всего семейства вместе с гуру на фоне недостроенного дома, на заднем плане – горы земли. Рисунок олененка в трогательной детски-диснеевской манере.
На столе – моментальное фото простоватого худого паренька в шляпе: застенчивая улыбка, жирная кожа. Снимок другого парня, более настораживающий: серьга, длинные волосы, замшевый пиджак с бахромой.