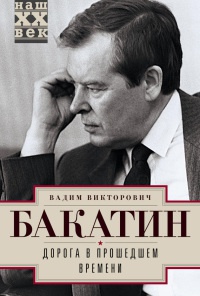Собаки льнут к нему все ближе, дрожа от возбуждения и даже залезая лапами друг на друга.
Что он дает им? Определенно еду, поскольку псы яростно набрасываются на нее, скуля и выпрашивая еще, пока не опустошают весь мешок.
Горожане, сидя у костров, оборачиваются и молча смотрят. Они наверняка ненавидят этого человека и кипят от злости — давать еду псам! Но никто не говорит ни слова.
Похоже, они знают пилигрима. Собаки, во всяком случае, знают его точно.
Он поворачивается и идет к центру площади, где в полном одиночестве лежит скорбящий пес. Он так и не встал и даже не шевельнулся во время кормежки.
Собака поднимает голову, но остается лежать, растянувшись на животе. Они смотрят друг на друга. Пилигрим встает на колени.
Что тут стряслось? Что-то явно случилось. Что?
Пес не шевелится. Человек протягивает руку. Собака опускает голову, не двигаясь с места.
Пилигрим подходит к ближайшей группе попрошаек и открывает кошелек. От группы отделяется мальчик и, взяв головню, следует за пришельцем, который возвращается к собаке.
Благодаря свету от факела теперь можно рассмотреть лицо пилигрима.
На макушке у него маленькая шапочка. В длинных волосах темно-рыжего цвета, характерного для уроженцев Тосканы, поблескивают седые пряди. Борода, подстриженная по моде, введенной королями Франции и Испании, аккуратно очерчивает челюсти, щеки и рот. Большие, широко расставленные глаза, а нос… Будь он статуей или картиной, можно было бы сказать, что нос у него в стиле Лоренцо Великолепного. Пилигрим и вправду похож на Медичи, вернувшегося, чтобы заявить права на свой город. Каждое его движение, каждый жест исполнены королевского величия, словно он рожден, чтобы повелевать.
Под пристальным взглядом мальчика пилигрим снимает сутану и расстилает ее на земле рядом с собакой.
Садится, достает из кармана длинной вязаной куртки альбом. И карандаш.
Мальчик подходит поближе. Факел пылает, отбрасывая свет на страницу, лежащую на коленях у странника.
Пилигрим начинает рисовать».
«Я видел этот рисунок, — прочел Юнг. — К своему горю и изумлению, я видел его. На нем изображены голова, шея и передние лапы несчастной собаки. А еще там нарисована зверски изуродованная рука с куском хлеба.
Надпись под рисунком сделана, очевидно, позже, его знаменитым зеркальным почерком. Вот она:
Рука флорентийской женщины — написана при свете факела в ночь на шестое февраля 1497 года. Пес остался с ней. Умер к утру. Рукав у женщины из темно-синей хлопчатобумажной ткани. Одна пуговица деревянная.
Это была моя первая встреча с Леонардо».
5
Прошло десять минут, а Юнг все также тупо смотрел на страницу.
Леонардо.
Ну конечно! О ком еще мог писать Пилигрим во Флоренции, в пятнадцатом веке?
В его книге о да Винчи наверняка есть репродукция этого рисунка — первого оригинального творения Леонардо, увиденного Пилигримом, судя по его заключительным фразам. Возможно, именно тогда он впервые увидел знаменитую зеркальную систему письма художника.
Юнг выключил лампу. Заря разгорелась и угасла. Взошло солнце.
Он замерз, читать больше не хотелось. Юному Анджело придется подождать. «На сегодня мне вполне хватит встречи с Леонардо», — подумал Карл Густав.
Юнг поднял воротник халата и обхватил себя руками, скорбя о женщине, которая умерла четыреста пятнадцать лет назад.
Одна пуговица деревянная.
Он глянул на открытую страницу, словно ждавшую, чтобы ее перевернули.
Нет. Не сейчас. Только не сегодня.
Взяв стакан с виски, Юнг встал и подошел к окну. Неужели Эмму не разбудила вся эта суматоха?
Странная мысль… Почему-то он вообразил, что она видела то, о чем он читал. Слышала завывание ветра, цокот копыт, лай собак, смотрела на пляшущие тени…
И вместе с тем ему казалось, что описанная сцена разворачивается у него перед глазами, точно он сам выглянул в окно и увидел фигуру шагающего к свету пилигрима. Леонардо.
Юнг услышал, как за открытой дверью по коридору прошла служанка.
Святые угодники! Как ее зовут? Как же ее зовут? Она была новенькая. Фрау Эмменталь наняла ее всего неделю назад. Как он мог забыть ее имя? Она так вежливо представлялась ему по восемь раз на дню! Улыбаясь, кланяясь, повторяя нежным голоском: «Меня зовут… Меня зовут… Меня зовут…»
— Кто ты, черт побери?
Она несла поднос с хлебом и горячим шоколадом для Эммы — и остановилась у двери как вкопанная, ничего не понимая. Доктор говорил, но явно не с ней.
Девушка всмотрелась в сумеречный коридор, пытаясь понять, к кому он обращается.
— Я, сэр?
— Да, ты.
— Я Лотта, герр доктор. Шарлотта, ваша новая служанка. Фрау Эмменталь…
— Ах да… — А дальше что? Он чувствовал себя дурак-дураком. — Я видел тебя раньше?
Еще глупее.
— Да, герр доктор. Я уже целую неделю работаю у вас.
— А шоколад на кухне еще есть?
— Да, сэр.
Лотта, покачивая медвяной косой, прошла мимо него, поставила поднос на библиотечный стол среди кучи книг и тихонечко испарилась.
Часы пробили семь.
Какой теперь сон? Хлеб, шоколад — не спеша и с удовольствием побриться — я постригу усы! — понежиться в ванне, а потом прямиком к Пилигриму.
Наливая в чашку шоколад, Юнг улыбнулся. Какой образ! Прямиком к Пилигриму, даже не одевшись! Надо же — опять пошел снег…
Отхлебнув из чашки, Юнг закрыл глаза и представил, как он, обнаженный и окутанный паром, вылезает из ванны и идет под снегопадом.
Я возьму с собой блокнот, это уж непременно. И ручку. И еще, возможно, посох.
Посох. Точно!
Идеальный образ голого пилигрима.
6
В музыкальной комнате, названной так потому, что она была оборудована для пациентов, проходивших курс лечения музыкой, было двадцать одно окно. Семь, семь и еще семь. Узкие и длинные. В девять часов утра Юнг читал дневник Пилигрима. Он стоял в музыкальной комнате спиной к двери, которая вела в коридор. Снег за окнами падал так, будто тучи разбрасывали пенсы — громадные белые пенсы тех времен, когда они были размером с наручные часы. Юнг смутно помнил их.
Двое часов тикали вразнобой.
В углу стояло большое пианино, с открытой, словно в ожидании, крышкой. Виолончель в кожухе притулил ась к стене забытая и заброшенная. Три невидимые скрипки отдыхали в футлярах на трех' золоченых креслах.