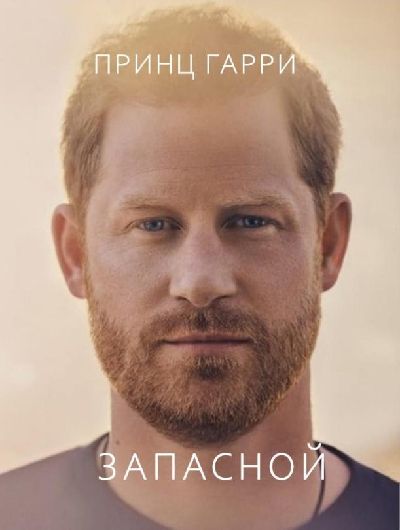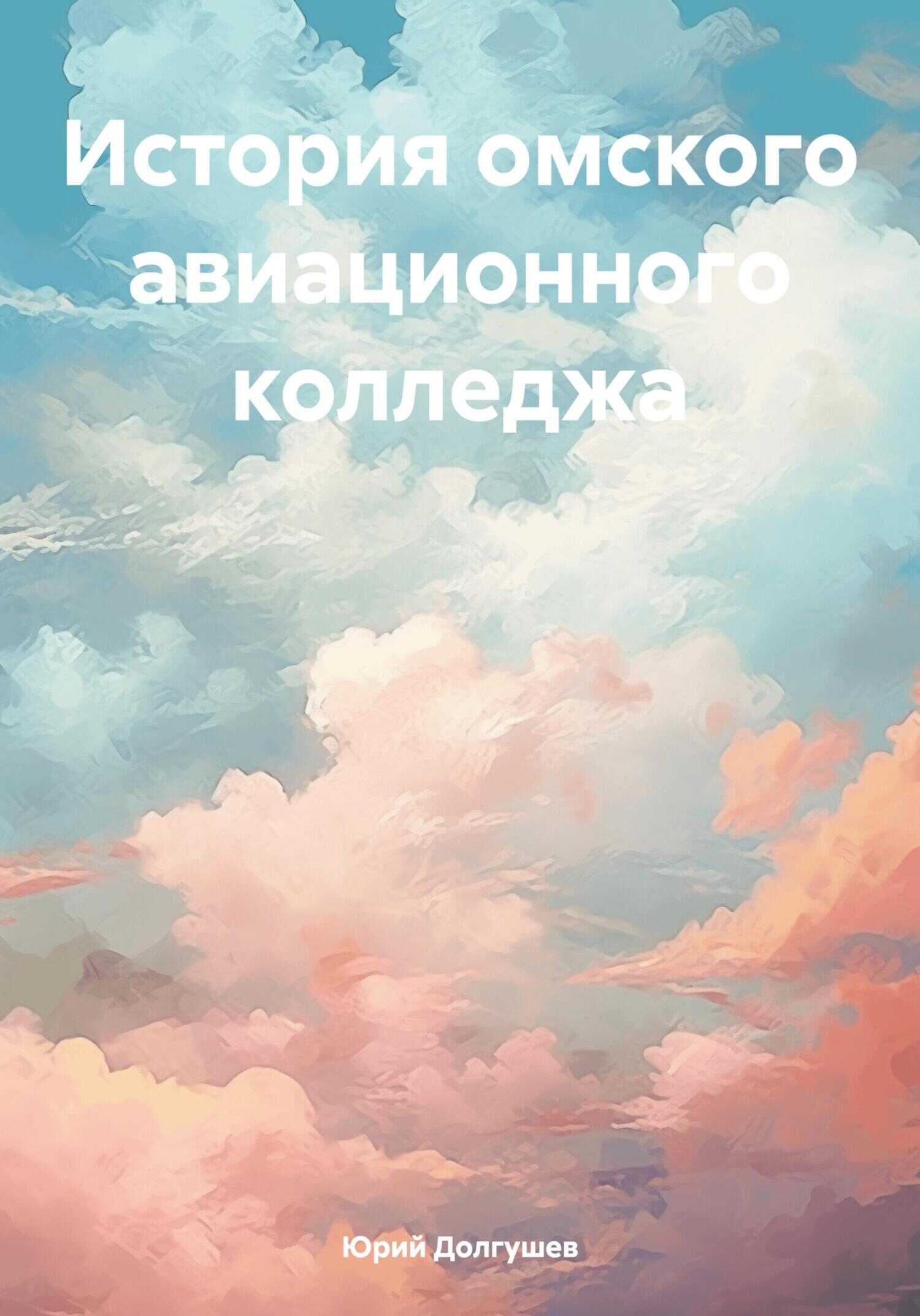Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 84
«Разве ты его не замечаешь? Он стоит передо мной». Ему было по-настоящему худо.
Я не доложил об этом немцам. Пошел на риск и отправился прямо к доктору. Дело было после заката, около восьми часов вечера. Состоялся примерно такой разговор:
Хиль: Послушайте, мой брат болен.
Доктор: Ох, дурак, зачем ты мне об этом сказал?
Хиль: Мне нужно было кому‐то рассказать. Я сообщил вам об этом, потому что вы единственный, кто может помочь.
Доктор: Я ничего не могу сделать.
Хиль: Знаю, но вам придется помочь мне.
Доктор: Ты не должен был говорить мне, ведь теперь я обязан внести его в список, и ты догадываешься, что за этим последует.
Хиль: Нет, вы не внесете его в список. Но вместо этого пойдете осмотреть его.
Доктор: Ты не понимаешь, что говоришь! Я не стану этого делать. Ты не оставляешь мне выбора. Мне придется доложить…
Хиль: Вы же знаете, что у меня есть возможность поговорить с лагерфюрером. И я знаю, что ваша сестра тоже болела. Вы об этом доложили? Если вы не сделаете то, о чем я прошу, завтра утром Бартман узнает обо всем. Возможно, мы погибнем, но и вы с нами.
После такой угрозы доктор сдался. Хотя было видно, что он меня ненавидит. «Хорошо, давай сделаем так, – сказал он. – Я не пойду к вам – это может показаться подозрительным, – но дам тебе пенициллин. К вам придет сестра и сделает твоему брату укол, а начальство ничего не узнает». Так мы и сделали. Я хранил пенициллин в нашей комнате, и сестра делала Мойше по одному уколу в течение трех дней.
Мне повезло. У меня был иммунитет к тифу, которым я переболел еще в кожницком гетто, так что опасности заразиться не было. Но Мейлех мог подхватить инфекцию. Он старался держать дистанцию и не дотрагиваться до Мойше. Я ухаживал за больным братом и спал между ним и Мейлехом. Каждое утро я одевал и кормил брата, прикладывал щеку к его щеке, чтобы определить температуру. Укрывал его одеялом и присматривал за ним, пока мы сидели в бараке и ремонтировали часы. Все это нужно было делать так, чтобы через окно ничего не было видно.
Два дня лагерфюрер не приходил. Нам было страшно. В какой‐то момент доктор предупредил, что назавтра будет по-настоящему тщательная проверка барака. Если Бартман увидит, что Мойше болен, он может расстрелять всех троих за то, что мы сразу же не донесли об этом. И то, что мы чиним для него часы, никак не поможет нам.
В тот день я посадил Мойше на лавку с лупой в глазу. Это такое специальное увеличительное стекло для часовщиков, которое вставляется в глазницу. Температура у него все еще была выше 41 градуса, его ужасно трясло от жара. Каким‐то образом я втолковал ему, как важно молчать в течение тех немногих минут, что Бартман проведет у нас. Я сказал: «Не говори ничего – изображай часовщика за работой. Опусти голову, как будто ты занят, и не поднимай головы, даже если он заговорит с тобой. И, пожалуйста, не дрожи». Рядом с ним на лавке лежала спираль баланса, как будто бы он работал над ней. Мойше все понял.
Как только Бартман появился в дверях, я встал, поклонился и передал ему отремонтированные часы, не давая приблизиться к лавке. Однако он подошел прямо к Мойше и спросил: «Чем он занят?» Я ответил: «Пожалуйста, не отвлекайте его. Он регулирует спираль баланса. Это очень тонкая работа: малейшее неверное движение может повредить пружину, и часы будет невозможно починить»[62].
Он выслушал меня и ушел, а я, с трудом скрывая радость, проводил его до двери.
Я спас жизнь Мойше. Лекарство, данное врачом, помогло ему вылечиться, хотя полное восстановление заняло около двух недель.
После этого отношение Бартмана к нам стало постепенно ухудшаться. Он не бил нас, а просто разговаривал с нами иначе. Однажды, придя забрать часы, он сказал: «Вы, зекецис, слишком долго тут сидите впустую. Думаю, пора вам немного поработать». Я спросил его, должны ли мы закончить работу с часами. Бартман ответил: «Да, сдайте мне все, что успеете починить за неделю. После этого вы больше не будете часовщиками». Иммерглик, начальник еврейской полиции, всегда приходил к нам вместе с Бартманом, когда тот приносил нам часы. Он слышал, как лагерфюрер ругался на нас и в каком тоне беседовал с нами. Бартман и с Иммергликом обращался плохо. Даже будучи начальником полиции, он оставался евреем, и начальник лагеря ни во что его не ставил. Иммерглик уважал нас, поскольку мы занимали такое же положение, как и он. Полицейский сказал мне: «Ленга, ты видишь, как он с вами обходится? Ему что‐то от вас нужно». Мне казалось, что достаточно того, что мы чиним для него часы и он очень этим доволен. Я спросил Иммерглика, что мне надо сделать, но тот ответил лишь: «Не знаю, не знаю». Полагаю, он знал, но боялся сказать.
Несколько дней во время визитов Бартмана я испытывал особенный страх. За любую мельчайшую провинность он мог в воскресенье приказать расстрелять нас. Я так ничего и не предпринял. В конце недели он приказал Иммерглику выводить нас на земляные работы вместе со всеми. Каждый день Бартман приходил посмотреть, как мы трудимся, и поиздеваться над нами. Другие заключенные злились на нас. Они знали, что лагерфюрер приходил из-за нас, а на глазах у роше (злодея) им приходилось вкалывать усерднее.
Однако пока Бартман не отдавал приказа Иммерглику выселить нас из отдельной комнаты. У нас остались в ремонте часы, и он постоянно спрашивал о них. Я говорил, что ищу для них запчасти.
Иммерглик снова пришел ко мне и сказал: «Вы что, дураки или слепые? Он чего‐то от вас хочет и не отыграет назад, пока вы не сделаете что‐нибудь, что доставит ему удовольствие». И тут мои глаза наконец открылись, и я понял, что полицейский прав. Может быть, Бартман велел ему поговорить со мной. Я не знаю.
Как бы то ни было, у нас нашлись прекрасные женские часы с жемчужиной на корпусе – из тех запасов, что отец отдал на прощание. Я починил и отполировал так, что они выглядели как новые. Когда Бартман пришел посмотреть, как мы строим и копаем, я подошел к нему и сказал: «Вы были так добры
Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 84