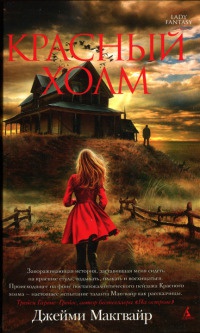Жилище? Руина.
Не лучше выглядела и хозяйка. Сперва я решил, что она толстая. Но быстро понял: нет, отечная, опухшая. Глазки заплыли, превратились в едва различимые щелочки. Под глазами – синюшные мешки. Все лицо покрывала сеть морщинок: такие трещины бегут в летний зной по пересохшей глине. Закутанная в многослойное рванье, которое с трудом можно было бы назвать одеждой, Нацуми расположилась на крыльце. Похоже, крыльцо было здесь единственным более или менее обустроенным местом вроде насеста: его чинили, подновляли, приколачивали свежие доски.
Рядом с Нацуми стояли две миски. В одной что-то горело, верней, тлело. Время от времени женщина протягивала к огню руки: грелась. Что в другой, я не знал. Но быстро понял, когда женщина отхлебнула из миски. Лицо Нацуми исказила ужасная гримаса: должно быть, это означало удовольствие. Ага, вон и жбан.
Ладно, хватит глазеть.
Я шагнул к плетню и остановился как вкопанный. В уши мне ударил собачий лай: злой, басовитый. Судя по звуку, собак было не две и не три – больше. Я завертел головой, озираясь. Стая? Бродячие псы? Нет, их не стали бы терпеть даже в Грязном переулке. Такие собаки опасны, днем они без колебаний могут загрызть и утащить ребенка, а глухим вечером – и взрослого человека, если тот не успеет шмыгнуть в укрытие. Здесь их давно пустили бы на похлебку с имбирем и уксусом, поджарив печень на углях. Время от времени сёгун издавал милосердные указы, запрещающие уничтожать собак, хозяйских или бродячих, без разницы, но указ ведь в котел не положишь, правда?
Лаяли за соседской оградой. В отличие от плетня Нацуми, дом соседа защищал настоящий добротный забор: выше моего роста, сбитый из прочных досок. Поверх забора виднелась крыша здания: целехонькая, крытая бамбуковой черепицей. Я успокоился: если собаки соседские, они не вырвутся на свободу, не кинутся на меня. Вон, Нацуми тоже ничего не боится. Хотя она, кажется, вообще ничего в этой жизни не боится, кроме одного: вдруг в жбане закончится выпивка?
– Это вас зовут Нацуми?
Она смотрела прямо на меня. Молчала. Не думаю, что она меня видела.
– Вы позволите войти?
Молчание. Глоток из миски.
– Я Торюмон Рэйден, дознаватель службы Карпа-и-Дракона…
Не найдя признаков калитки, я шагнул в дыру посередине плетня. Оскальзываясь на подтаявшем снегу – ночью была метель – прошел мимо колодца, встал напротив крыльца. Нацуми с прежним равнодушием глядела на гостя. Женщина не моргала, глаза ее неприятно блестели.
– Вашего сына зовут Иоши?
– Иоши…
Дрогнули, разлепились губы, все в едва заживших болячках:
– Иоши, мой мальчик… мой бедный сыночек…
Знает, уверился я, не имея к этому никаких оснований.
– Вам известно о его смерти?
– Мое дитя… он умер, мой мальчик, он погиб…
Слезы потекли по лицу Нацуми:
– Его больше нет…
Слухи, да. Зимой ли, летом, в Акаяме слухи разлетаются роем мух, учуявших поживу. Кто-то успел сообщить матери, что ее сын оставил мир живых. Кто-то видел, как жирный монах заманивает Иоши к себе, кто-то видел монаха, обезумевшего после фуккацу, когда тот бежал по улицам в нашу управу, вопя голосом двенадцатилетнего Иоши… Да мало ли что люди видели и слышали? Жалкой, ничем не подкрепленной догадки хватит, чтобы досужий болтун ринулся насладиться горем несчастной женщины, упрочив свою славу знатока новостей.
Вряд ли Нацуми, утопая в вечном опьянении, сопоставила гибель мальчика с его последующим воскрешением. Да и потом, когда она увидит монаха-убийцу, новое вместилище духа ее сына – не думаю, что это сильно ее утешит. Лучше, наверное, если мальчика в теле монаха оставят в обители с разрешения настоятеля. Тогда обитель может взять эту несчастную на содержание. Саке – вряд ли, но с голоду не умрет.
– Вы правы, Иоши погиб…
Я отшатнулся. Нацуми протягивала мне миску с хмельным. Жест этот был с ее стороны подвигом, великим актом самоотверженности: женщина делилась драгоценной выпивкой. Устраивала поминки по сыну, приглашала незнакомца отдать дань памяти маленького Иоши. Она предлагала, а я хотел и не мог согласиться. Из миски несло таким непотребством, что от одного запаха кишки завязывались узлами, а желудок подкатывал к горлу, грозя расплескать свое содержимое.
Саке, которое я пил в «Эйкю хару», было вполне приличным. Саке, которое заказывал господин Сэки, посылая за ним в лапшичную, было отменным – как у нас говорили, хризантемным. Китайский сановник Цэн-цзу, рассказывал архивариус Фудо, пил росу с лепестков хризантемы и прожил семьсот лет. Если же пить не росу, а хризантемное саке – тут архивариус воздевал палец к потолку – небось, и тысячу лет проживешь!
Выпей я бурду, предложенную мне Нацуми, я и дня бы не протянул. Не удивлюсь, если эту брагу изготовляли без разрешения властей, древним отвратительным способом: разжевывая нешлифованный рис и сплевывая жвачку в деревянную лохань для брожения.
– Благодарю, мне нельзя, – забормотал я. – Лекарь запретил, я на службе. Сочувствую вашему горю…
Не в силах глядеть на женщину, я отвел взгляд – и увидел девочку лет десяти. Завернутая в такое же тряпье, что и мать, она сидела на обломке веранды – так же, как и Нацуми, без движения. Не знаю, почему я не заметил ее раньше. Тощий нахохленный воробей, девочка только сейчас проявила ко мне какой-то интерес.
– Вы принесли мою куклу? – спросила она.
– Н-нет. Иоши твой брат?
– Брат. Вы принесли мою куклу?
– Нет. Я пришел спросить…
– Вы принесли мою куклу?
От этой ничего не добьешься, понял я. Слабоумная. Всякий раз, произнося вопрос о кукле, девочка делала ударение на другом слове. Вы принесли мою куклу? Вы принесли мою куклу? Вы принесли мою куклу?
– Эй! – окликнули меня. – Господин!
Я обернулся. Звали из-за забора: сдвинув в сторону доску, державшуюся на одном гвозде, и просунув руку в щель, мне махал сосед.
– Вы сказали, дознаватель? Да, господин?
Я кивнул, не спеша заговорить с любопытствующим.
– От нее толку не будет, – доска отъехала дальше. Сосед убрал руку и просунул в щель голову. – Сами видите!
За его спиной зашлись лаем собаки. Я и не заметил, когда они замолчали. Только сейчас сообразил, что лай смолк, едва я вошел во двор Нацуми.
– Цыц! – гаркнул сосед. – Тихо, злыдни!
Не сразу, но псы умолкли.
– Вы ко мне идите, молодой господин. Я вам все расскажу, всю правду-истину. Здесь вы только время зря потратите…
– Вы знали Иоши? – спросил я. – Сына этой женщины?
– Мелкого гаденыша? Лучше бы и не знал, право слово!
– Вам известно, что он погиб?
– Уж кому, как не мне? Известно, и не скажу, что я сильно огорчился. Сдохни он во младенчестве, зараза, я бы всей улице пир закатил…