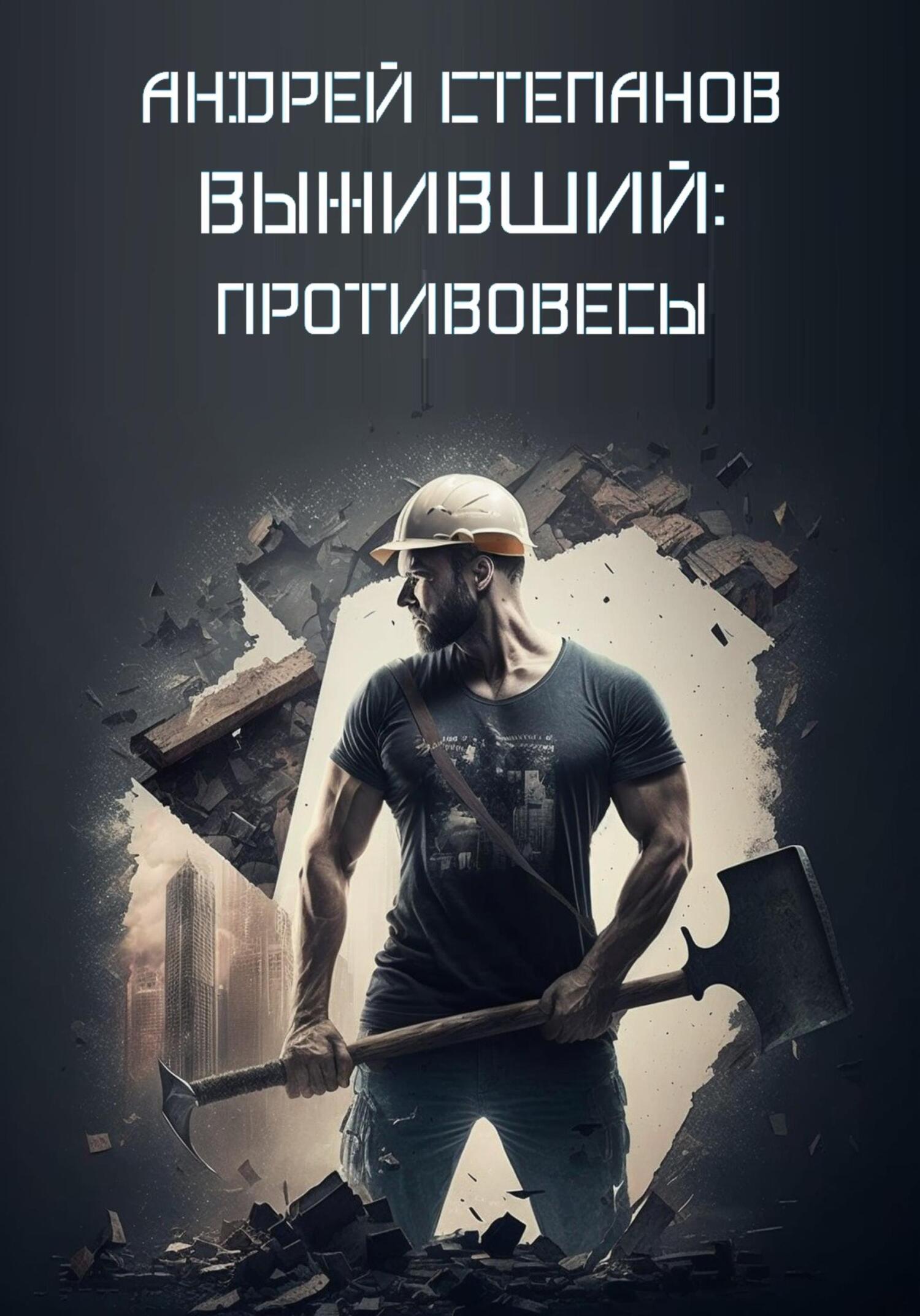и Ильи — доставили уже на родную землю и покоились они пока в божьем храме под неусыпными заботами прежде всего попадьи Евпраксии, что приходилась сестрой старшему воину.
В Литовском же крае подготовились и совершили свою, освященную древним обычаем тризну. Тут услуг одного Лакоте явно не доставало, и Криве-Кривейто Лиздейко прислал другого судью-жреца, которому полагалось исполнить обязанности распорядителя на тризне, тилуссона Жвалгениса.
Надо сказать, что и жемайты, и аукшайты, и прочие племена Литовского края, все без исключения, верили в бессмертие души человеческой и ожидали в загробной жизни наказания или награды. Последняя ожидала того, утверждали вайделоты, кто покоряется судьбе без ропота, наказывать же следовало тех, кто ей дерзал противиться. Самой страшной карой полагали осуждение души на ничтожество (угасание в Пустоте), в других случаях считалось, что душа человека улетала на небо или оставалась невидимой на земле, не переставая при этом быть вечной.
Однако умерший примерно за полвека до событий епископ краковский Викентий Кадлубек в написанной им хронике по истории Польши утверждал, что литовские племена веруют в переселение одних душ в тела нерожденных еще детей, а иных — в тела животных (как мы видели ранее, вроде как не чурался таких верований даже Эварт-криве Лукоте). Интересно было бы узнать, в кого же переродился таким образом сам покойный ныне польский священник?
Жемайты же веровали на самом деле в день судный, который обязательно придет в загробной жизни. Происходить все будет на высокой горе, на которой воссядут боги и призовут к себе всех-всех умерших для полного и беспристрастного отчета о проведенной ими на земле жизни. Призванным придется карабкаться на гору, и кто из них скорее вползет на нее, тот и попадет раньше других в назначенную для праведников блаженную страну.
Как и положено по стародавнему обычаю, тела убитых на полевом стане решено было сжечь, хотя беднота, может, и предпочла бы просто зарыть их в землю. Но считалось, что похороненных таким образом и на том свете будут точить черви, жалить пчелы, мучить разные гады, а вот сожженые пребывают в загробном мире в сладком сне, словно нежатся в уютной матушкиной колыбельке.
Костер пришлось разложить большой, почти триста людей разного звания предстояло проводить. Надо было б, конечно, чтоб не нарушать традицию, отправить в огонь и все те вещи и предметы, что любили покойные при жизни, но Криве-Кривейто распорядился сократить обряд в этой части, ладно хоть поблизости нашлись пара лесков с сухостоем.
А так-то воина обычно снаряжали в дорогу в один конец вместе с боевым конем, клали на дрова саблю, пику, щит, лук со стрелами и прочий ратный доспех. Порой на костер отправлялись т жена, и некоторые слуги, дабы убитый, когда воскреснет со временем, мог вновь вступить в то общественное и семейное положение, что занимал при жизни. Но не в этот, да и не было почти среди гостей этой великой свадьбы воинов, разве что десятка три мелких князьков...
Но чтобы легче было б потом похороненным в судный день карабкаться на высокую гору, где восседали строгие боги, чтобы добрались они до вершины среди первых, щедро положили среди дров заготовленных заранее и впрок к таким случаям медвежьих когтей и когтей барса.
Как и заведено, похороны вершили на третий день, вели обряд из-за обилия погибших сразу многие тилуссоны и лингуссоны, старшим над которыми Криве-Кривейто назначил Жвалгениса. Жрецы перенесли к погребальному костру покойных, пели все это время молитвы, рассказывали поучения, прославляя дела убитых. Наконец, поднесли огонь, и взвился он высоко-высоко, так что из ближайших деревень точно было видно поминальное зарево.
Прах по сожжении рассыпали в горшки числом по количеству покойных, часть их них родня унесла к домам своим поближе, где закопала в родовые курганы, часть выставили у ведущих к полевому стану дорог, рядом с ним разложили подарки — что поесть-попить умершим в дальней дороге, немного денег. И никто, даже тати разбойные, на те подарки не покушались.
Все это приехавшему неделю назад окольной тайной дорогой в Полоцк в сопровождении Данилы Терентьевича и пятерых воинов Товтивали Андрею-Федору рассказал порученец от опечаленного неслыханными за последние годы по масштабам похоронами Лукоте.
Поминки же, как знал из хроник Внуков, устраивались на шестой, девятый и сороковой дни. На них ели и пили молча, ножей не употребляли. Тилуссон в начале читал молитву и своей рукой часть пищи бросал под стол, так же поступал и с напитками, веруя, что этими дарами воспользуются души умерших.
Если же стола что-то падало случайно, то тоже не подымали, оставляя для душ, у которых не было на этой пирушке ни друзей, ни родственников. По окончании жрец обметал дом и просил: «Души, вы ели и пили, теперь удалитесь!» И сразу после этого начинали новую пирушку, завершавшуюся уже далеко за полночь, на ней в первую очередь не ели, а пили, и пили допьяна...
И надо же такому случиться, что почти сразу после получения последних