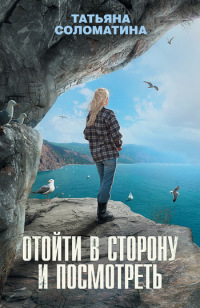— Сантехник, солнышко. В прошлый раз я не застал тебя дома. Как там у тебя с краном? Из него не течет?
Я ничего не отвечаю. Отец в домашнем халате входит в гостиную.
— Это знакомый? В такой час?
— Да так, один клоун.
Звонок меж тем надрывается как оглашенный.
— В чем дело? — кричит мама из спальни.
— Ни в чем, мама. Спи спокойно.
Я решаю все же сказать пару ласковых в домофон:
— Вали отсюда, или я вызову полицию.
— Давай вызывай! Я не делаю ничего противозаконного, миленок. Почему бы тебе не впустить меня? Я ведь не плохой мальчик. Я очень плохой.
У папы, который уже стоит рядом со мной и все слышит, по лицу разливается заметная бледность.
— Папа, — говорю я ему, — не бери в голову и возвращайся в постель. Это же Нью-Йорк! Здесь такое бывает.
— Ты с ним знаком?
— Нет.
— Так почему же он приходит к тебе? Почему разговаривает с тобой в таком тоне?
Замешкавшись с ответом, я нарываюсь на новый звонок в дверь. Уже в изрядном раздражении я объясняю отцу:
— Потому что парень, у которого я снял эту квартиру гомосексуалист. И, насколько я могу судить, сейчас сюда ломится один из его дружков.
— А он еврей?
— Ты имеешь в виду владельца квартиры? Да, он еврей.
— О господи, — вырывается у папы, — так чего ж ему не хватает?
— Полагаю, мне нужно спуститься и разобраться.
— В одиночку?
— Да уж как-нибудь справлюсь.
— Ум хорошо, а два лучше. Не будь идиотом. Я спущусь с тобой.
— Папа, в этом нет ни малейшей надобности.
— Ну а теперь в чем дело? — кричит из спальни мама.
— Ни в чем, — отвечает ей муж. — Дверной звонок заело. Мы сейчас спустимся и починим.
— В такой час?
— Мы на минуту. Ты только смотри не вставай. — А мне отец шепчет: — У тебя есть трость, или бита, или что-нибудь в этом роде?
— Ничего такого.
— А что, если он при оружии? Но зонтик-то у тебя хотя бы есть?
Звонки меж тем прекращаются.
— Должно быть, он ушел, — говорю я.
Отец прислушивается.
— Ушел, — повторяю я. — Точно ушел.
Но папе уже совершенно расхотелось спать. Прикрыв дверь в спальню («Ш-ш-ш, — шикает он на жену, — все в порядке, спи спокойно!»), папа садится на стул напротив моего дивана. Мне слышно, как бурно он дышит, собираясь с мыслями перед тем, как заговорить. Я и сам в напряжении. Прислонившись к подушке напряженной прямой спиной, я жду нового звонка в дверь буквально в любое мгновение.
— Скажи-ка мне, а ты сам… — Папа прокашливается. — Не замешан ни в чем предосудительном? Ни в чем, чего тебе не хотелось бы мне поведать…
— Не говори глупостей!
— Потому что, Дэви, ты покинул отчий дом семнадцать лет назад и с тех пор находишься под самым дурным влиянием.
— Нет, папа, ни под чьим влиянием я не нахожусь.
— Но мне хочется задать тебе вопрос. Только ответь на него честно.
— Договорились.
— Вопрос не об Элен. Я никогда не спрашивал тебя о ней и не хотел бы касаться этой темы сейчас. Я всегда относился к ней как к невестке. Разве я, разве мы с твоей матерью не относились к ней с предельным уважением?
— Это правда.
— Мне приходилось прикусывать себе язычок. Нам не хотелось настраивать ее против себя. Вплоть до сегодняшнего дня ей абсолютно не в чем нас упрекнуть. С учетом всех привходящих обстоятельств мы вели себя, думается, безупречно. Я ведь и вообще либерал, сынок, а в политике даже больше чем либерал. Известно ли тебе, что в двадцать четвертом году на выборах губернатора штата Нью-Йорк, самых первых выборах, в которых мне довелось участвовать, я голосовал за Нормана Томаса?[23]В сорок восьмом я проголосовал за Генри Уоллеса,[24]что не имело никакого значения, да и вообще было ошибкой, но примечателен тот факт, что я — наверняка единственный из всех владельцев гостиниц в Америке — проголосовал за кандидата в президенты, которого все считали коммунистом. Что не соответствовало действительности, но не в этом суть. Главное, что меня никак нельзя назвать человеком ограниченным. И никогда нельзя было. Ты знаешь — а если не знаешь, то тебе следует это знать, — я никогда ничего не имел против гоек. Гойки — это элементарный жизненный факт, и от него никуда не денешься, даже если еврейским родителям хочется, чтобы их сыновья брали в жены евреек. Да и с какой стати я должен возражать? Я верю в то, что представителям всех рас и религий надлежит жить в мире и согласии, и тому обстоятельству, что ты женился не на еврейке, мы с твоей матерью никогда не придавали ни малейшего значения. В этом отношении мы держались практически безупречно. Что лично мне не нравилось и не нравится в твоей Элен, так это все остальное! Честно говоря, если хочешь знать, я за три года вашего брака просто — напросто лишился сна.
— Я, кстати, тоже.
— Вот как? Тогда какого черта ты не сорвался с этого крючка сразу же? Или на что вообще клюнул?
— Хочешь поговорить об этом? Именно об этом?
— Нет-нет, ты прав, к черту все это! Что касается меня, то я не слишком расстроюсь, если больше ни разу в жизни не услышу ее имени. Меня интересуешь только ты.
— Ну и о чем же ты хотел спросить?
— Дэвид, что это за тофринал стоит у тебя в аптечке? Большая такая бутылка, наполненная чуть ли не доверху? Зачем ты пьешь эту пакость?
— Это антидепрессант. И вообще-то он называется тофрантил.
Отец шипит. Отвращение, досада, страх, нежелание поверить в очевидное — вот что означает это шипение, услышанное мною впервые в те незапамятные времена, когда папе пришлось рассчитать официанта, потому что тот мочился под себя и запах мешал спать всей ютящейся в мансарде прислуге.
— А почему он тебе понадобился? Кто посоветовал тебе портить свою кровь, подмешивая в нее такую дрянь?
— Мой психиатр.
— Ты что, ходишь к психиатру?
— Да.
— А это-то зачем?
— Чтобы остаться на плаву. Чтобы разобраться с самим собой. Чтобы обрести собеседника… которому можно доверять.