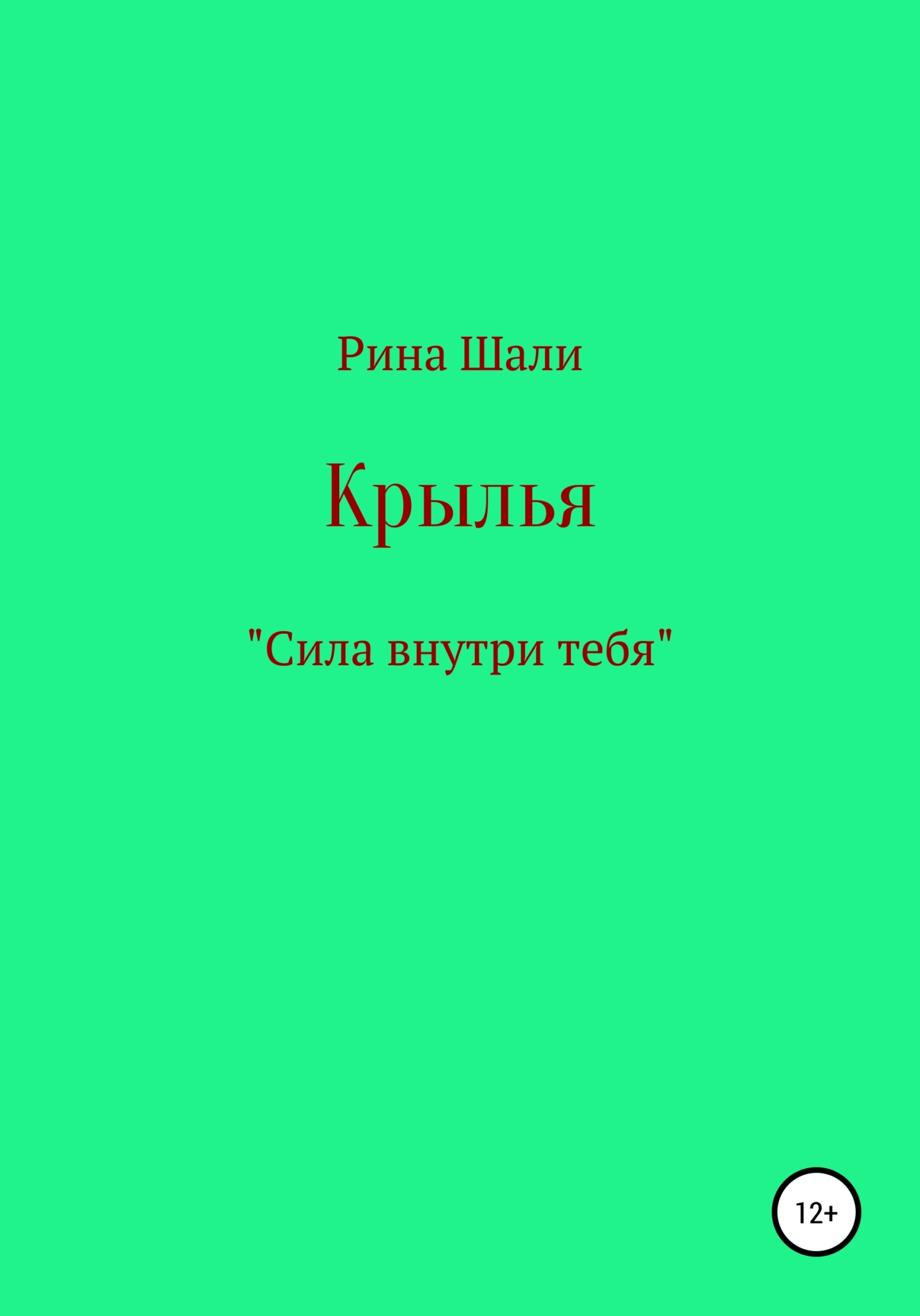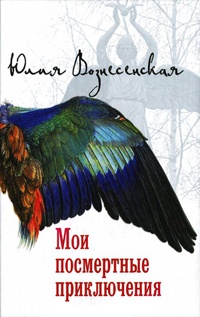несколько лет. Ты старалась спасти их, медитировала, прилагала усилия – все это тщетно. Они этого не оценят. Они никогда тебя не поблагодарят.
Я видела, как меняется ее лицо. Я знала, что она верит мне. Настало время уходить.
Вибраторы отключились. Элинор снова спросила, что произошло. Я рассказала ей.
– А вдруг она не пойдет? Вы можете дать ей то, что будет ей нужно, чтобы остаться?
Вибраторы снова включились.
Я так хотела, чтобы она ушла. Мое тело буквально рыдало от страха за нее. Я знала массу рациональных советов и хитростей, которые могли бы ей помочь, могли бы разрядить конфликтные ситуации, но она уже все сделала.
– Я просто хочу, чтобы ты знала: ты не сделала ничего плохого. Помни, что тебя будут любить… Обещаю… – сказала я. – И еще: я хочу, чтобы ты знала, какая ты сильная. Чуткая. Дипломатичная. Ты всего лишь маленькая девочка, но ты – то ядро, которое удерживает эту семью вместе. С тобой или без тебя эти токсичные взрослые будут абсолютно несчастливы. Но ты делаешь их менее несчастными. Их горе – не твоя вина.
Я прижала девочку к груди. Я пыталась вложить в это объятие целую жизнь, полную любви и тепла.
И тут все кончилось. Вибраторы отключились.
Я очнулась, открыла глаза и заморгала от яркого света.
– Как вы себя чувствуете? – спросила Элинор.
– Менее… загипнотизированной, чем я думала, – ответила я.
Это было совершенно неверное описание произошедшего, но… разве у меня были слова, чтобы описать все, что только что случилось? Я поблагодарила Элинор, пожала ей руку, вышла в коридор и простояла там несколько минут, уставившись в стенку.
Раз двести я вспоминала этот случай насилия и ни разу не плакала. Я никогда не плакала. Я всегда ощущала некий покой, что‑то плоское, пустое ничто. Психотерапевты много раз говорили:
– Насилие – это не ваша вина.
А я ощущала этот пустой покой и отвечала:
– Да, я знаю.
– Точно знаете? – спрашивали они.
Они заставляли меня повторять это, сидеть на их кушетках и неловко твердить:
– Насилие, которому я подвергалась, – не моя вина.
А когда я умолкала, они с надеждой спрашивали:
– И как вы теперь себя чувствуете?
– Наверное, хорошо? – отвечала я. – Да, это верно. Это не моя вина.
Но когда я это говорила, в душе моей царила пустота. Голос и тело читали факты по бумажке.
Реальная жизнь – это не «Умница Уилл Хантинг». Сам Робин Уильямс мог посмотреть мне в глаза и закричать или прошептать «это не твоя вина» десять, двадцать или двести раз, но я не упала бы в его объятия, рыдая над потерянной юностью. Я бы просто посмотрела на него и сказала:
– Да, конечно, я знаю.
Но это было нечто другое. Эти маленькие вибраторы превратились в электронного Робина Уильямса. Я не просто сумела логически понять груз моего насилия. Я почувствовала его, словно лезвие вонзилось мне в плоть, словно у меня выскочила кость. Словно любовник ошарашил меня словами о том, что у нас ничего не получится. Это было резко, неожиданно и пугающе. Наконец‑то я абсолютно отчетливо почувствовала ужас того, что произошло со мной, – возможно, впервые в жизни. Почувствовала, как это ужасно, что мне пришлось заставлять родителей чувствовать себя любимыми в таком юном возрасте. Я почувствовала, какой смелой была, выдерживая эту пытку день за днем на протяжении многих лет. И ведь мучили меня те, кому я доверяла больше всех в мире! Я почувствовала любовь к этому ребенку! И восхищалась им – а ведь никогда прежде ничего подобного не испытывала.
Между знанием и пониманием есть разница. Я знала, что все это была не моя вина. ДПДГ открыла врата в новую реальность, открыла путь к пониманию. Механическое запоминание и истинное понимание. Гипотеза и вера. Молитва и вера. Теперь все стало очевидным – как может существовать любовь без веры?
В тот день я узнала две важные вещи. Во-первых: если рана не болит, это не означает, что она зажила. Если что‑то выглядит и ощущается хорошо, значит, это хорошо, верно? Я долгие годы усердно шпаклевала зияющие структурные дыры и ровно разглаживала белую штукатурку.
Во-вторых, мне стало ясно: родители меня не любили.
Нет, я, конечно, это подозревала. Ведь меня бросили еще ребенком. Но я всегда искала тому причины и оправдания. И вот впервые в жизни я поняла правду: они не могли меня любить и никогда не любили. Они слишком сильно ненавидели себя, чтобы любить меня. Скорбь делала их слишком эгоистичными, чтобы любить меня. Меня не любили не из-за меня самой или моих поступков. Все дело было в родителях.
Я попробовала эту идею на вкус.
– Родители не любили меня, – прошептала я и повторила громче: – Родители не любили меня.
Трагическая фраза. Словно выстрел в живот. Но в этом был смысл и покой. Это случилось. Это так. И это нормально. Есть люди, которые меня любят. Обо мне позаботятся. И я сильная. Все будет хорошо. Черт побери! Все так!
Я подошла к входной двери, даже не понимая, как добралась домой. Всю дорогу я твердила: «Родители не любили меня, и это нормально».
Может быть, я исцелилась. Может, все действительно так просто.
Глава 18
Целых пять дней я была счастлива. Нормальна. Когда Джоуи в ответ на мои слова отделывался короткими междометиями, я понимала, что он занят, и отправлялась болтать с кошкой. Когда я сделала ошибку в проекте на фрилансе и редактор указал мне на это, я все исправила, и мы стали работать дальше. Я преисполнилась осторожного оптимизма. В книгах писали, что на реальное исцеление от комплексного ПТСР уходит от трех до пяти лет, но я всегда была особенной. Может быть, я сумею исцелиться за три месяца.
Пятым днем стала суббота. На эти выходные пришлась наша годовщина, но Джоуи был слишком занят работой, чтобы что‑то организовывать. Он только начал преподавать математику в средней школе – гераклов труд, как оказалось! – и постоянно был озабочен и думал только о работе. Конечно, он расстроился, что не может в такой день уделить мне время, но предложил мне встретиться с моей лучшей школьной подругой, Кэти, а праздник отложить на потом.
Кэти по-прежнему жила в Калифорнии, но как раз в это время на несколько дней приехала в командировку в Нью-Йорк. Мы еще не виделись, потому что она тоже была слишком занята и очень уставала. В субботу она была готова встретиться – но пригласила и других друзей,