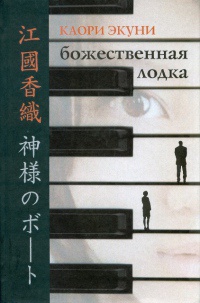Но, к сожалению, ни Рей, ни Катерина не могли сейчас в полной мере испытать это чувство, потому что у обоих внутри сидело что-то, назойливо мешающее им.
Рассевшись по своим местам в автобусе, они прекратили разговор, но договорились встретиться в гостинице. Катерина теперь с приятной истомой любовалась заоконными видами, крепко держась за руку подруги. Улыбка не сходила с ее очаровательного лица. Словом, если бы она была агентом разведки, тут же бы провалилась на первом задании.
А Рей не смотрел в окно, ибо видел все окружающее уже не один раз. Он и не смотрел в автобус, не смотрел и на людей. Он смотрел в прошлое, пугающее и отвратительное.
***
Как проходила его жизнь после Софы? Никак. Вообще никак. Он учился на архитектора, подрабатывал на каких-то работах, занимался непонятными делами, которые не мог вспомнить и через неделю. Безусловно, время лечит, то есть не лечит, а маскирует. У него появлялись и пропадали друзья, какие-то побочные интересы, но ничего не приносило былой радости, словно пришел хмурый и усатый фонарщик, беспристрастно потушил, а потом забыл про фонарь да так и не вспомнил. В Вену он ездил каждый год ранней весной. Так и оказался тут.
Он сильно изменился во внешности: глаза постарели, приобрели какую-то старческую белизну, веки и брови опустились и больше не в силах были подняться. Губы его, некогда полные крови, теперь были бледны и обветрены. Грубые пальцы, будто притупленные к концам, нередко начинали беспричинно дрожать. Холод поселился внутри его, колючий и пугающий, пустой холод, даже лед, который не могло ничто растопить. Лед не давал попадать внутрь его души чему-то новому, раннее незнакомому. Но он привык. Или сдался? Как сдаются цветы, оставленные без присмотра, как сдаются люди, находящиеся в плену, как сдаются родители, которым врачи сказали, что у их ребенка почти нет шансов. Но ведь все они не до конца не сдаются, во всех тлеет надежда: цветок расцветет, дай ему воды и солнца, пленные возрадуются, услышав освободительные крики, родитель заплачет, увидев, как его любимое дитя открывает глаза.
И все-таки она точно умирает последней.
***
«В сто сорок солнц закат пылал…» Багрово-красное солнце освещало весь город своим неистовым светом, точно одинокая, но очень яркая свеча. Ветра не было, что было видно по обездвиженным деревьям, однако они не были абсолютно мертвы: на большинстве веточек уютно восседали уставшие птицы. Кажется, они смотрели на весь мир и удивлялись: отчего люди, считающие себя такими властелинами этого мира, до сих пор не научились летать, ведь это так здорово: расправить свои крылья, сквозь старания оторваться от земли, чувствовать под своими ногами надежный, но такой непостоянный воздух, отдаться ветру, лишь изредка ему помогая, и полететь; облететь все, что пожелаешь: с огромной высоты увидеть Китайскую стену, на всей скорости легонько коснуться камней Гимолай, вступить в неравный бой с северными ветрами, искать тени под палящим солнцем тропиков. Это ведь так здорово!
Дунай снова дремал и очень раздражался, когда наглые люди будили его своими машинами или брошенными камнями, однако люди не понимают этих простых намеков в виде желтоватой пены.
– Кэт, с тобой все в порядке? – беспокойно поинтересовалась Мэг, выйдя из душа.
Девушка, вытянувшись, лежала на кровати, закинул руки за голову. Она смотрела вверх, по не на потолок. Улыбка освещала ее чистое лицо, а заодно и всю комнату.
– Мэг, слушай, – не замечая вопроса, мечтательно, но как-то серьезно ответила девушка, – а почему я не актриса?
– Я, кажется, сколько себя помню хотела этого, – продолжала Катерина, но смотря уже в глаза Мэг, – когда-то я брала своих бабушек и дедушек за руки, нагло уводила от родителей и показывала им представления. И знаешь, я была такой счастливой. А помнишь, когда мы были на мосту, – люстра номера уже играла в ее глазах своим непослушным светом, – тебе не передать, насколько это было восхитительно. Иногда, хотя знаешь, вру, я очень часто вспоминаю эти аплодисменты, как люди уходили счастливые, обнимали меня, говорили, что я молодец. Господи, как я редко это слышала!
Две маленькие, светлые и блестящие полосы уже опоясали ее светлое лицо. Она не стеснялась слез. Люди не стесняются своих слез, только когда все хорошо, либо когда все безумно плохо, либо когда очень доверяют. Сейчас было все.
– Как редко, да почти никогда, я не слышала каких-то слов похвалы или одобрения того, чего я делаю. Все время я чувствовала себя обязанной что-то делать. И, знаешь, только сейчас я понимаю, в чем я жила. А я ведь на самом деле терпеть не могу то, чем занималась и чем занимаюсь. Я не люблю чертить или моделировать. Это все не для меня, черт подери, точно не для меня. А сколько лет меня ограничивали, не давали как-то развиваться! Может я и петь умею?
Недолго думая, она пропела части песни, которую часто пела ей бабушка в детстве, что-то про крейсер.
Даю слово, ничего прекрасней Мэг не слышала в своей жизни. Ее голос, который при пении был совершенно иным, нежели в жизни, способен был проникнуть в самую душу, глубоко пустить там свои мощные корни и начать цвести. Казалось, что нежность ветра, плавность воды, бодрость огня и уверенность земли смешались в нем, переплелись друг в друга и так и остались.
– Кэт, это просто прекрасно, – сквозь паузу и с трудом проговорила Мэг, – просто восхитительно.
– Если это правда, то какого черта, – она по-детски прыгала на кровати, – почему они так сделали? Почему?
– Может стоит у них спросить, – на удивление спокойно посоветовала девушка, – обычно достойные родители хотят для своих детей самого лучше. Они думают, что прожили свою жизнь, знают в ней толку больше твоего в разы, в десятки раз, дают тебе советы, как лучше сделать. Но, к сожалению, иногда их контроль заходит слишком далеко. И это ужасно.
– Хотя знаешь, – после небольшой паузы продолжила Мэг, – я бы с удовольствием выбрала контроль. В детстве за мной не смотрели, я училась, как хотела, гуляла, с кем хотела, и до какого хотела времени. Единственное, что я получала от родителей, это деньги. Если мне нужен был совет, я знала, что к ним обращаться нельзя, ибо я для них, по сути, никто. Но я ошибалась. Когда умирала моя мама, она позвала меня к себе и мы проговорили около двух часов. Она так изменилась, раньше я такой ее точно не видела: первое – это слезы. Она просила у меня прощения со слезами, говорила, какая она плохая, что могла дать мне много больше, нежели дала. Она говорила о том, сколько ошибок сделала в жизни, просила меня не делать поспешных решений и аккуратней вести себя. И тогда я поняла, насколько я ее люблю, эту прекрасную женщину, хотя тысячу раз говорила себе, что любить ее не за что. Ее потемневшие глаза в ту минуту были самым дорогим, что у меня есть, дороже неба и звезд, дороже дыхания и сердца, дороже всего. А последнее, что она мне сказала, точнее попросила у меня, это обещание. Обещание того, что я буду счастлива. И я дала. А потом она попросила меня выйти, поцеловав меня своими наполовину холодными, но все еще нежными губами. Боже, я до сих пор ее люблю. И ты пойми, что забота, пусть даже и чрезмерная, – это проявление любви, настоящей любви.