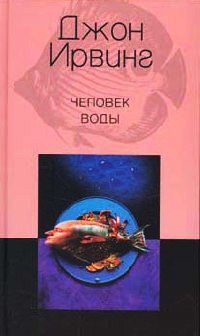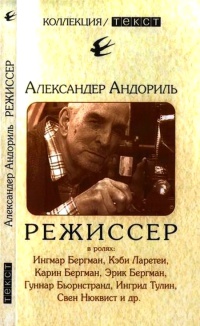Самое страшное было в том, что я не знал, правда это или нет. Самое страшное было в том, что я сомневался, и от сомнений рождался страх.
Пантус сидел напротив. Время шло. Вот-вот он станет первым. Я упускал момент.
141
Вдруг в дальнем углу, возле решки, шелохнулось чье-то тело. Сначала свесились ноги в черных носках поверх синих треников. Потом показался человек. Привычным способом я определил его размеры. Повыше меня. Пока он спускался, я вдруг понял, что надо сказать.
– Слышь, Пантус. Это правда, что про тебя говорят?
Голос мой звучал не так ровно, как хотелось, но это был мой голос.
Пантус пропал.
– Ну все. Хватит! – сказал тот, кто слез с пальмы. Пантус сник. Он больше не выглядел опасным и таким, каким его видел Конан.
– Правду? – сказал мужик в трениках. – Ты хочешь знать правду? Я скажу тебе, что такое правда. Считай, ты ее нашел.
Пантуса больше не было. Он задвинулся вглубь. На передний план вышел дядька в трениках и носках. Он был похож на моего папу, только чуть моложе, лысый и худой. Нескладуха, наподобие циркуля в синих спортивных штанах, заправленных в носки.
– Правда в том, – сказал он, – что под шкурой все одинаковые, а ложь снаружи. Делает всех разными.
142
Еще один гуру, подумал я, сколько их было в тюрьме? Я потерял им счет. Слушать их интересно, но в какой-то момент наступает отвращение, как от пьяного Колумба, который всех достал своей Индией. Они рассказывали такое, что я давно знал, забыл и снова вспомнил. Ничего нового. Об этом знал каждый, кто сидел в тюрьме и много думал. Только не каждому дано понять, что испражнять свое говно в чужие горшки, свято веря, что свое не воняет, – это признак мудачества. Быть смотрящим и пользоваться своим статусом, чтобы быть мудаком, – это признак сверхмудачества. Никто не скажет смотрящему «дуло завали», а будут слушать и делать вид, что интересно, а мудак, поверив в свою исключительность (ему же никто не перечит), будет мудеть и мудеть, пока не смудится окончательно.
Перебивать его опасно. Перебить мудака в порыве вещания – навлечь на себя проклятие мудака. Оно въедливей говна из его горшка.
– Внешнее меняет формы, – вещал он. – А внутреннее остается неподвижным, и чем глубже, тем меньше меняется, а в самой глубине есть самая неподвижная точка, и у всех она одинаковая. Сердцевины деревьев деревянные и так просто не отличить одно от другого, а снаружи они называются ясень, дуб, липа, клен, береза. Младенец Ленин похож на младенца Иисуса. Не отличить, пока не вырастут и не натворят делов, а в море сверху шторм, а на дне – спокойствие. Меняется снаружи, а внутри не меняется, потому что изменения только для тех, кто смотрит, а если не смотрят, зачем меняться? Если нет того, кого нужно обмануть, то остается только правда. Она застается врасплох голой в ванне или на унитазе, когда она думает, что ее не видно, тогда она такая, как есть. Измениться – это солгать. Понравиться, или напугать, или еще как-то привлечь внимание, или отвлечь – это все обман, а когда никого рядом нет, то меняться не надо. Тогда правда остается правдой. Голой, беззащитной и мертвой. Самой правдивой правдой на свете. Такой, какой ее никто никогда не увидит, потому что никто не смотрит. А если увидит, то это будет не правда, ведь на нее посмотрели. Она спрячется за ложью. Не потому, что специально хочет обмануть. Нет, просто когда смотрят, то все бывает по-разному. Зависит от того, кто смотрит. Остается только смириться с тем, что ложь, которую видно, – это правда, которой не видно. Потому что ложь – это правда, которая изменилась, когда на нее посмотрели. Понял? Так, что там про меня говорят?
– Про тебя? – спросил я. – А кто ты такой?
Момент прошел в мою пользу, стало быть, разговаривать можно дерзко.
«Кто ты такой?» – вопрос из будущего или настоящего, какое принято в тюрьме, пока оно не стало модным на воле.
– Ты не понял? Я – Пантус.
Я посмотрел туда, куда сбился толстый.
– А это?
– Это Гусь.
– Гусь?
– Навес такой.
Правая рука Пантуса. Я слышал о нем. Его кулаки накачаны вазелином и похожи на боксерские перчатки.
– Почему Гусь? От «гусеницы»? – Я привык, что у здешних авторитетов червивые навесы.
– По фамилии Гусенок. Он не последний человек, сам видел. Называй его Гусем.
– Да, видел. – Пришлось согласиться, или солгать, что почти одно и то же.
– Но зачем весь этот цирк? – спросил я.
– Это не цирк, – ответил Пантус. – Так вышло, а я не мешал.
143
Шесть месяцев, почти полгода, я был смотрящим за тюрьмой. Вел ночной образ жизни. Ночью больше движения, и если что-то потерять из виду, то потеряешь все.
Я занял нару Гуся, а Гусь переехал на пальму Пантуса. На абрикосе, сразу надо мной, поселился Конан, моя правая рука. А Гусь стал левой.
Однажды вечером я проснулся, чтобы движнячить (это было сегодня), и нащупал на лбу крест, составленный из двух складок, горизонтальной и вертикальной. Умывшись (лицо под ладонями было жестким), заглянул в «мартышку» (маленькое зеркальце над раковиной). Лицо было твердым. Попытка расслабить не удалась. Я так долго жил в напряжении, что складки въелись в кожу и стали морщинами, теперь уже навсегда. Я смотрел в «мартышку» и не узнавал себя. За полгода власти лицо обрело новые черты. Морщины, складки и надбровные дуги, каких раньше не было, делали меня под стать тюремному названию зеркальца над раковиной. Я внешне превращался в альфа-самца макаки резус, а внутренне мне это нравилось. Следующий шаг был продиктован инстинктом самосохранения. У альфа-самцов инстинкт самосохранения на высшем уровне, это их делает альфа-самцами. Я понял и испугался, что если ожидание затянется, то следующего не узнаю, потому что быть головой змеи меня вставляет. Если так пойдет дальше, то размыкание челюстей станет самоубийством, а не освобождением.
144
Я стал смотрящим не для того, чтобы питаться из хвоста, а чтобы добраться до первого и узнать, кому он подражает, но, добираясь, незаметно продал душу червю.
О душе я вспомнил, когда увидел, как сильно изменилось тело. Я, наверное, уже не такой, как раньше. Раньше я бы не смог стать смотрящим, а теперь, когда нужно, легко включаю арестанта. То есть говорю не мигая, чисто конкретно и непонятно, чем загоняю в тупик нежные умы. Бывает, помогает. Бывает, нравится, когда помогает и собеседник тушуется, ерзает, троит и во всем соглашается. Вот он, дьявольский соблазн власти над людьми. Вот почему зэки быстро к нему привыкают, пропитываются им, как деревяшки морилкой, и уже ничем не вытравить этот яд. Попробовав его, хоть пригубив однажды, уже не забудешь его сладкий вкус с привкусом пряной горечи. Сладость власти над чужой волей. Если знать, что своей воли никто не имеет, то власть эта призрачна, как сон. Развеется, и останутся лишь воспоминания, которые хочется освежить. Это наркоманская зависимость от радости. Все равно, где и какой источник радости. Лишь бы радость. Чем больше ее съешь, тем больше хочется.