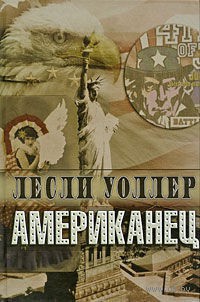Действительно, барабаны и трубы — это не пустые слова. Действительно, Пиккадилли, и Холборн, и пустая комната, и комната, набитая пятьюдесятью людьми, способны в любую секунду наполнить воздух музыкой. Ну, может быть, женщины впечатлительнее мужчин. Однако ведь об этом вообще редко говорят, и, глядя на толпы, спешащие по мосту Ватерлоо, чтобы успеть на экспресс в Сербитон, можно предположить, что они повинуются голосу рассудка. Нет, нет. Конечно, барабанам и трубам. Правда, если свернешь в маленькую нишу на мосту Ватерлоо, чтобы как следует это обдумать, все, наверное, покажется крайне запутанным и непостижимым.
Они идут по мосту непрекращающимся потоком. Иногда среди телег и омнибусов появится грузовик, который тащит из лесу огромные деревья. Потом, может быть, повозка каменотеса, а в ней надгробия с только что выбитыми надписями, сообщающими, как кто-то любил кого-то, похороненного в Патни. Затем автомобиль впереди резко трогается, и надгробия проскакивают так быстро, что больше ничего не успеваешь прочитать. Все это время безостановочно идет людской поток, он движется со стороны Суррея к Стрэнду и со Стрэнда в сторону Суррея. Кажется, что бедняки совершали набег на город, а теперь тащатся восвояси, как жуки, семенящие в свои норки; вот эта старушка едва ковыляет в направлении Ватерлоо, прижимая к себе блестящую сумочку, словно она выползала на свет, а теперь, прихватив какие-то обглоданные куриные косточки, спешит в свое подземное убежище. А рядом, хотя дует сильный ветер, и к тому же в лицо, идут девушки, которые держатся за руки, и громко поют, и, кажется, не ощущают ни холода, ни стыда. Они простоволосы. Они ликуют.
Ветер вздувает волны. Река мчится внизу, и тем, кто стоит на баржах, приходится всем телом наваливаться на румпель. Черный непромокаемый брезент покрывает выступающую под ним груду золота. Черным поблескивают лавины угля. И, как всегда, на зданиях больших прибрежных отелей подвешены маляры в люльках, а на оконных стеклах уже зажглись точечки света. Другая сторона города побелела, словно от времени, и белый собор Святого Павла нависает над резными, остроконечными или прямоугольными соседними зданиями. Только крест блестит розовой позолотой. Но в каком мы столетии? Или процессия со стороны Суррея к Стрэнду движется вечно? Этот старик идет по мосту вот уже шестьсот лет, и мальчишки гурьбой бегут за ним следом, потому что он пьян или ослеп с горя и обмотан старыми лохмотьями, какие, наверное, носили еще паломники. Шаркая, он все идет и идет. Никто не стоит на месте. Похоже, мы шагаем под музыку, может быть, ветра и реки, а может быть, опять те самые барабаны и трубы — восторг и шум души. Господи, ведь смеются даже несчастные, и полицейский, нисколько не осуждая пьяницу, добродушно его разглядывает, и снова бегут мальчишки, подпрыгивая на ходу, и служащий из Сомерсет-хауса[15]настроен снисходительно, и человек у книжного лотка, уткнувшийся с середины страницы в «Лотарио»[16], подняв глаза от книги, полон благожелательности, и девушка, поколебавшись на перекрестке, обращает к пьяному ясный, но невидящий взгляд юности.
Ясный, но невидящий. Ей года двадцать два. Одета она бедно. Она переходит улицу, глядя на нарциссы и красные тюльпаны в витрине цветочного магазина. Поколебавшись, направляется к Темпл-Бар. Она идет быстро, но беспрестанно отвлекается. То словно видит все, то ничего не замечает.
X
На заброшенном кладбище прихода Сент-Панкрас Фанни Элмер побродила между белыми надгробиями, привалившимися к стене, ступая на траву, чтобы прочитать фамилии; стремительно двинулась прочь, завидев кладбищенского сторожа; стремительно выбралась на улицу и пошла по ней, то застывая у витрины с синим фарфором, то, как будто чтобы наверстать потраченное время, врываясь в булочную за булочками, потом вернувшись еще и за кексами и снова идя вперед, да так, что, захоти кто за ней угнаться, ему пришлось бы бежать трусцой. Она казалась одетой бедно, но не убого. На ней были шелковые чулки и туфли с серебряными пряжками; правда, красное перо на шляпке повисло и сумочка, видимо, плохо закрывалась, потому что оттуда выпала программка из Музея мадам Тюссо. Ее лодыжки напоминали оленьи. Лица видно не было. Конечно, проворные движения, быстрые взгляды и взмывающие надежды вполне естественны в таких сумерках. Она прошла прямо под окном Джейкоба.
Дом был гладкий, темный, молчаливый. Джейкоб сидел у себя и решал шахматную задачу, поставив доску на табуретку между коленями. Одной рукой он ерошил волосы на затылке. Затем медленно протянул руку, поднял над полем белого ферзя, но поставил его на то же самое место. Набил трубку, подумал, передвинул две пешки, сделал ход белым конем, потом задумался, касаясь пальцем слона. В этот момент Фанни Элмер прошла под его окном.
Она шла позировать художнику Нику Брамему.
Она сидела в цветастой испанской шали, держа в руке желтую книгу.
— Чуть ниже, посвободнее… так… уже лучше… хорошо, — бормотал Брамем; он рисовал ее, и одновременно курил, и, естественно, не мог говорить. Голова его казалась вылепленной скульптором, который сделал ему квадратный лоб, растянул рот и оставил на глине вмятины и полоски от пальцев. Но глаза всегда были открыты. Чуть навыкате, чуть воспаленные, словно от постоянного всматривания, они на секунду встревожились, когда он заговорил, но продолжали всматриваться. Над головой Фанни висела голая электрическая лампочка.
А женская красота подобна солнечному блеску на море, который не может принадлежать одной-единственной волне. Все они загораются, все они гаснут. То женщина скучна и толста, как ветчина, то прозрачна, как подвешенное стеклышко. Скучны застывшие лица. Вот леди Венис — выставленная для всеобщего восхищения, но гипсовая и словно пылящаяся на каминной полке. А брюнетка, одетая с иголочки, само совершенство с головы до ног, кажется просто картинкой, положенной в гостиной на стол. Женские лица на улице напоминают игральные карты — внутри ровненько закрашено розовым или желтым и резко обведено по контуру. И вдруг видишь настоящую красоту — она смотрит, высунувшись из чердачного окошка, или прячется в углу омнибуса, или сидит на корточках в канаве, — сияющую красоту, внезапно явившуюся и тут же исчезающую. На нее нельзя рассчитывать, ее нельзя схватить или завернуть в бумагу. И магазины здесь бессильны — видит бог, уж лучше сидеть дома, чем торчать у зеркальных витрин, надеясь, что вот эту ослепительность зеленого или пыланье алого удастся вынести оттуда не погубив. Шелка теряют блеск, как морское стеклышко на блюдце. Так что когда говоришь о красивой женщине, говоришь лишь о том мимолетном, что на секунду выбрало глаза, губы, лицо, скажем, Фанни Элмер, чтобы там просиять.
Она не была красива, пока сидела неподвижно, — нижняя губа выпячена, нос великоват, глаза посажены слишком близко друг к другу. Худенькая, с горящими щеками, темноволосая, сейчас она хмурилась, или просто оцепенела от долгого сидения. Когда Брамем с треском разломил уголь, она вздрогнула. Брамем злился. Он присел у газовой горелки погреть руки. Она тем временем посмотрела на рисунок. Он захмыкал. Фанни накинула халат и поставила чайник.