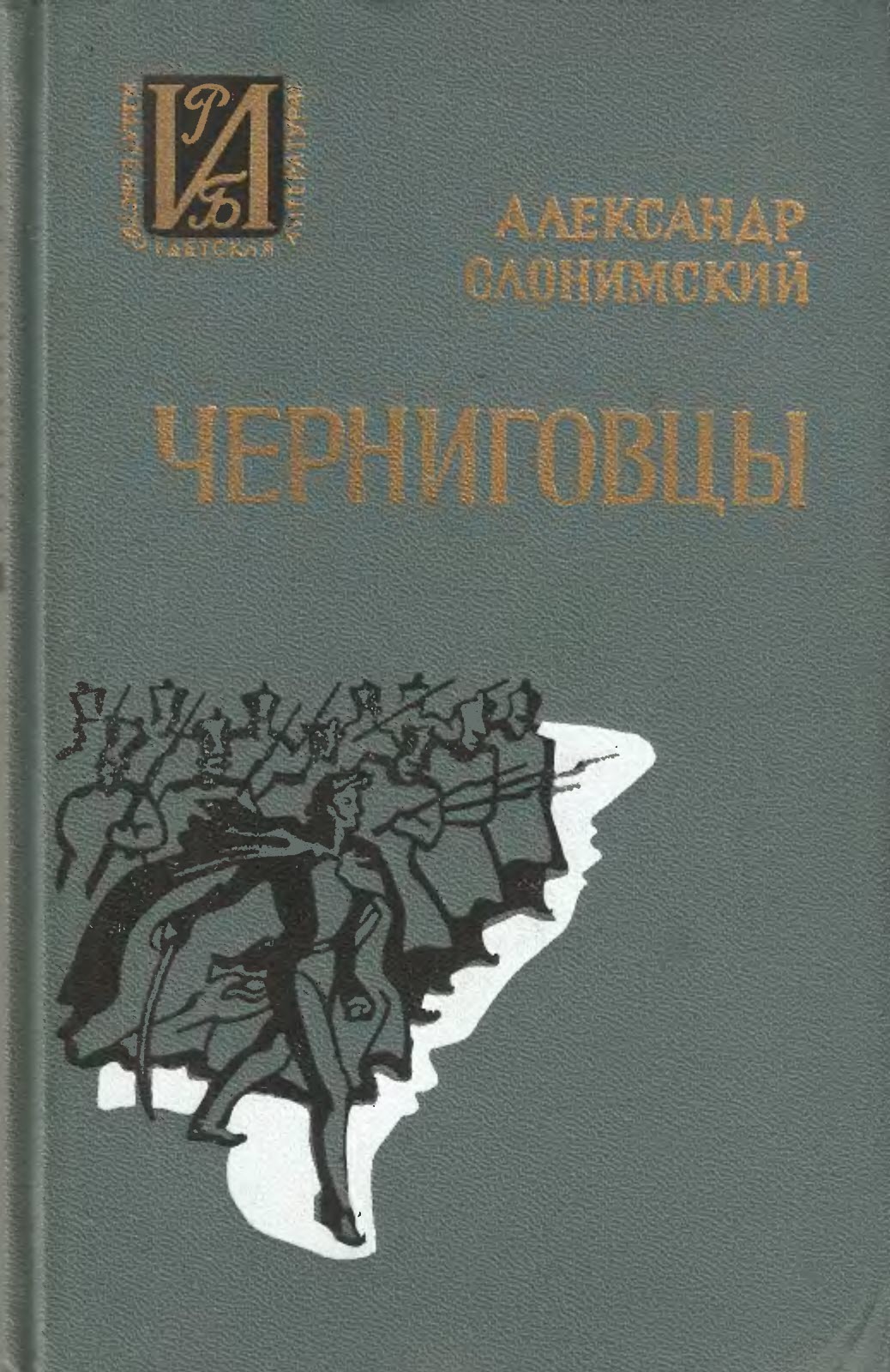было слишком жарко и пыльно для того, чтобы заинтересоваться: почему и куда бежит молодая женщина?
Добежав до дома, где жил Лютый, Франя остановилась. Отдышавшись, толкнула дверь и вошла.
В комнате у Лютого — беспорядок и грязь.
Сам художник сидел на кровати голый до пояса. К кровати придвинут был стол. На столе — пять бутылок водки, стакан и мокрые соленые огурцы.
Лютый сказал мрачно и спокойно, нисколько не удивляясь:
— Это ты? Садись и пей. «„In vino Veritas!“ — кричат»…
Черный густой волос вился на груди художника и на руках — от локтя до кисти. У Олейникова тело — безволосое, белое.
Франя всплеснула руками:
— Ты пьян!
— Да, — отвечал Лютый, — я гол и пьян. Потому что дух материализовался и искусство погибло. Душа умерла, а тело хочет водки. Садись и пей.
— Слушай, Лютый, приди в себя хоть на секунду. Ведь ты же меня любишь.
Художник поправил упрямо:
— Я тебя любил. Но женщина разрушает искусство. Долой женщину! Женщина — враг всякой идеи, женитьба — смерть для художника. Долой женщину!
Франя воскликнула:
— Господи! Куда же мне пойти? — с таким отчаянием, что художник отрезвел немного.
— Франя… погоди… Это Франя… а я голый…
Франя махнула рукой:
— Мне все равно. Это пустяки.
Но художник, схватив полотенце, тщетно пытался найти в нем рукава, чтобы надеть.
Отбросил полотенце.
— Я уже трезвый. Я понимаю, что это полотенце, а не рубаха. Говори.
Черные усы голого по пояс Лютого были неожиданны и смешны.
Франя не глядела на художника.
— Меня Олейников оскорбил. Мне не к кому обратиться за помощью.
— Я его убью! — воскликнул художник. — У меня есть нож. Погоди, куда я его спрятал? Как сейчас помню — пришел и хотел зарезаться. Потом решил напиться, а нож — куда я дел нож?
— А ты хотел зарезаться?
— Да.
— Почему же ты не зарезался?
— Надеялся, что ты вернешься ко мне…
— А зачем тебе сейчас нож?
— Убить Олейникова.
— За что?
— За то, что он тебя оскорбил.
— А ты за меня готов убить человека?
— Хоть тысячу.
— А только что говорил: долой женщину.
— Это я потому, что боялся, что ты не вернешься ко мне.
— Так ты, значит, готов убить моего мужа из любви ко мне?
— Убью, — сказал художник и отрезвел совсем.
Побледнев, голый по пояс, Лютый подошел к Фране, взял ее за руки и, сжав крепко, притянул к себе.
— Я говорю серьезно: убью.
И действительно, шутка кончилась. Все стало очень всерьез: заскок.
Художник отпустил Франю, и рука его сама вспомнила: пошла в карман и вытащила оттуда нож.
— Брось! Брось сейчас же!
Франя вырвала у Лютого нож и кинула в угол.
— Я все это нарочно. Ничего не случилось. Одевайся — идем.
— Куда идем?
— Как куда? К нему! Господи, вдруг с ним что-нибудь случилось. Вдруг он покончил с собой, как… Да одевайся же, растяпа! Беги за лошадью!
Художник промолвил:
— Ты его любишь.
— Да брось об ерунде! Одевайся, и, если через четверть часа не будет лошади, возненавижу и на порог не пущу!
Художник вмиг оделся.
Перед тем как уйти, он подошел к Фране и глянул на нее в упор (от него сильно пахло водкой):
— По старой дружбе скажу тебе: стерва!
И побежал за лошадью.
VII
Лошадей дал Губрезерв.
Тачанка — широкая, с обитым черной кожей сиденьем. Лошади — вороные, сытые, и кучером — милиционер.
Франя похвалила Лютого:
— Ты иногда бываешь толковым.
Когда трубы рудника выросли из-за бугра, Франя попросила кучера остановить лошадей.
— Дальше мы пешком. Мне хочется пройтись.
Лютый угостил милиционера папиросой, и тачанка, повернув, покатила в город.
Франя опустилась на траву у дороги и дала художнику письмо брата.
— Прочти.
Она обняла руками колени и глядела снизу в лицо художника, пока тот читал.
Лютый стоял перед ней, расставив ноги, большой и широкий, в белом кителе и белых штанах. Кепку он сбил на затылок, и черные усы делали его лицо несерьезным и неумным.
Он бормотал, читая:
— Ай-ай… Я и не знал… И чего это люди?.. Ай-ай…
Он сложил письмо.
Франя спросила:
— Что ты обо всем этом думаешь?
— Что я думаю? То, что я — несчастный человек. Раз ты теперь думаешь не о брате, а…
— Я тебя прошу, — перебила Франя, — отрешись хоть на минуту от себя. Подумай о других.
— Хорошо. Отрешаюсь. Вот что: он будет жить во втором этаже, ты — в первом, а мне — что? В подвале, что ли, жить? Я из-за тебя отказался от заказа, и теперь…
— Ты все о себе.
— Если мне отрежут руки и ноги и я буду кричать — ты тоже скажешь: все о себе?
— Тебе ничего не отрезало. А заказ тебе останется. Помоги мне, и я тебе устрою.
— Лучше пропаду, чем приму заказ от твоего мужа. Я не прохвост.
— Идем.
— Нет, я возвращаюсь домой.
И художник повлекся за синим, из простого ситца, платьем.
Франя прошла прямо в контору.
В конторе Олейникова не было.
Технорук поцеловал у Франи руку.
— Ваш муж в шахте. Если вам нужно…
Франя улыбнулась как ни в чем не бывало:
— Это не мне. Вот художник — позвольте вас познакомить — приехал из города по поводу, знаете, о театре. Дайте записку: я провожу товарища Лютого к мужу. Кстати, погляжу шахты, я ведь ни разу еще не спускалась.
— Я вам дам провожатого.
И технорук повел их в большую комнату, туда, где на скамейке вдоль стены сидели молча шахтеры, бородатые и безбородые, молодые и старые, с руками, созданными для труда, и с глазами, строго озиравшими Лютого и Франю.
Технорук толкнул дверь, на которой было вывешено: «Бухгалтерия», и крикнул:
— Товарищ Белебей!
— Я.
И вышел молодой человек в солдатской гимнастерке и черных, в белую полоску, штанах, сунутых в высокие, тусклые от пыли сапоги. Лицо его, широкое в скулах, было чисто выбрито и волосы приглажены.
Узнав, в чем дело, он поклонился Фране.
— Готов к услугам.
И повел их из конторы. Он — впереди, художник и Франя — позади, отстав не несколько шагов.
Лютый усмехнулся:
— Я уже совсем потерял личность и превратился в простую мотивировку. Пожалуйста. Да. Это мне нужно видеть управляющего рудником, а жена управляющего рудником только провожает меня.
— Ах, перестань! Ты все об одном.
Фране было уже стыдно за то, что она пришла сюда не по делу.
Лютый уныло шел рядом с ней.
— Ты делаешь явные успехи. Ты уже не человек, а человечество: жалости в тебе нет никакой.
— Ах, мне тебя жалко