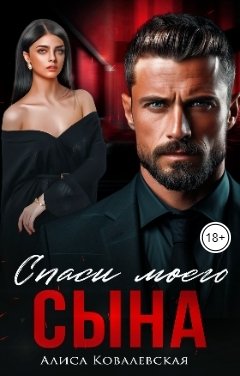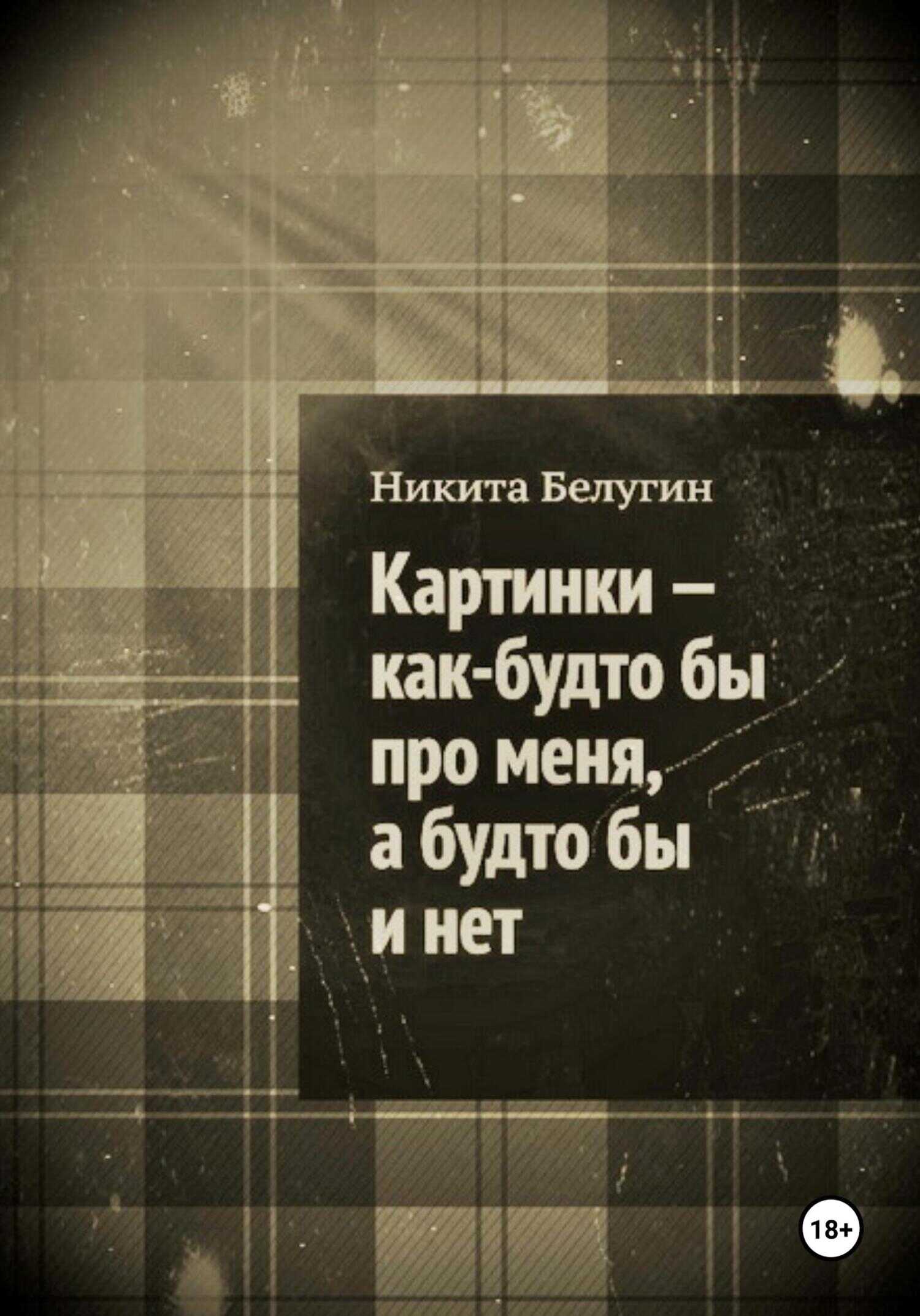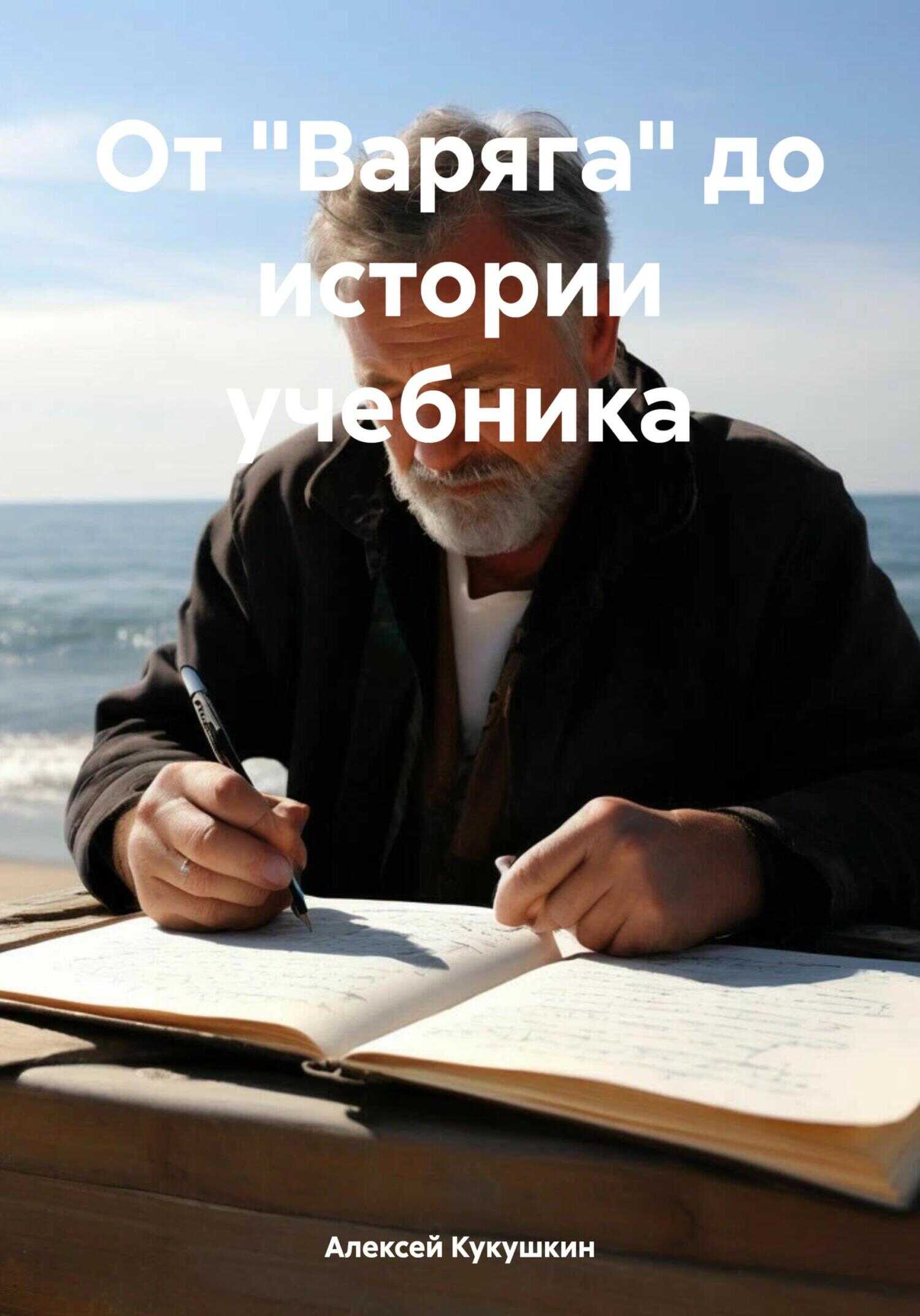рад такому отдыху. С середины ночи только о том и думаешь, чтобы скорее подъем. А утром пока в рабочую зону выведут, стоишь час на разводе, а если туман или снег, то гораздо больше, и замерзнешь окончательно…
Ладно, зиму пережили. Пришла весна. От жиров отвык, солнышко пригреет — голова кружится. А в зоне драки, одному голову топором прорубили, тот в побег ушел, педерастам работы прибавилось. Весна! И знаешь, вроде бы легче стало, по крайней мере не дрожишь от холода, а тоска усилилась. Ну что с этого тепла? Ляжешь на землю, смотришь в небо — там тишина, неподвижность. И вдруг необыкновенно ясно становится, что человек рожден быть свободным. Господи, думаешь, небо огромно, но и земля не мала, и все на ней свободно: деревья качаются, насекомые ползают, звери пасутся — все-все свободно! И человек должен быть свободным… Эх, Вадим, многие затосковали.
Я тебе скажу, самое мучительное здесь все-таки не голод, а общежитие. То есть барак, в котором живет триста человек. Одиночка — страшная вещь. Я попал раз — думал, с ума сойду. Но и общежитие, ежедневное зрелище трехсот душ, вынужденных к сожительству, тоже кого хочешь доведет до помрачения. Сюда кого только не собрали. Есть мразь, их бы стрелять надо, на воле таких и не бывает. Есть любители легкой жизни, ребята во всех отношениях приятные, он тебе и анекдот расскажет, и споет, и станцует, однако ни к какому делу не способные и совершенно неисправимые. Есть здоровенные мужики, тяжелые, темные души, главное преступление которых — убийство — то ли осталось нераскрытым, то ли еще впереди… Многие сидят ни за что. Тот жинку отмурцевал. Тот мешок зерна или колхозного поросенка увел. Самые несчастные люди шофера. Они совсем не готовы к сроку. Ехал, вез, имел мирные планы, однако дорога полна неожиданностей — бац! — что-то поломалось, кого-то сбил. Большинство, конечно, сделали аварии по пьянке. И опять получилось слишком жестоко: пить сначала отказывался, выпил только затем, чтобы не приставали, и пошла рюмка за рюмкой, и потерял рассудок. Такой несчастный что-то мастерит, какие-то вещи заводит, чтобы и мысли занять, и независимым быть среди голодных и холодных. Где там! В лагере ничего своего нельзя, рано или поздно не казенное у тебя отнимут да вдобавок над головой раздастся дурацкий смех товарищей.
Ах, эта зона! Весной нас перевезли в другое место. Собрали два лагеря. В том, в другом лагере, беспредел еще больший был. Они совсем работы не имели. Чтобы чем-то занять, их в поле камни собирать заставляли, гусениц (личинки в паутине) в лесопосадках. На новом месте порядки сразу ввели военные. Заказчик — конвой, работа — строить богатый клуб со зрительным залом на пятьсот мест. И чтобы, заставить работать, начали карать. За невыполнение нормы — пониженное питание, за нарушение режима — карцер. Карцером наказывали на всю катушку — на пятнадцать суток. Он у нас здесь под землей. По стенам вода течет, человек оттуда выходит бледный, буквально ветерок качает. Но, должен сказать, не только карали, но и поощряли. Ежемесячно приезжал суд, человек тридцать освобождали досрочно. И по мелочам поощряли: свидания с родичами, посылки дополнительные, или в ларьке отовариться на сто рублей вместо положенных семидесяти — денег на счету стало порядочно, у меня по тысяче двести выходило в месяц, если б мне на воле так зарабатывать, может быть, и не сидел… Здорово, можно сказать, наладился порядок. И все-таки зона есть зона. Побеги один за другим, то педерастов человек десять разоблачили, ну и карты, чифирь, водка, а это значит доносы, шмоны. В напряжении здесь постоянно. Все под запретом, всего в обрез. Например, чтобы достать воды и постирать необходимое, приходится хитрить необыкновенно. И копится в человеке злоба. Порой достаточно невинной шутки, чтобы разразился он проклятьями. Но, между прочим, всякие шутки и Шуточки, какой-то героизм в этом смысле (шутить в лагере всегда опасно) — это другая сторона напряжения. Стоит посмотреть на нас перед отбоем. Тут ярость, почти поножовщина. Там идиотский хохот, от которого звон в голове стоит. И между теми и этими лежит пластом человек — кризис! Суд отказал ему в освобождении, только дня через два он поднимется, а до тех пор никто его не тронет.
Есть у меня взыскание. Достали ребята вина. Ну а настроение хуже некуда: пять лет только распечатаны, тоска беспредельная, и вдруг вино — лекарство от всех бед. Хватанул пол-литровую банку. Глупо не то что выпил, а то что попался. Продали. Здесь насчет этого запросто. Дверь у опера не закрывается, стукач идет за стукачом. Потом с меня взыскание сняли, благодарности две заслужил. Однако на учете как алкоголик состою, и «по двум третям» теперь сложно пройти. А вырваться отсюда раньше срока — мечта…
Сейчас опять зима. Работа остановилась. Нет краски, нет олифы, нет извести… Я отделочником стал, маляр, штукатур. В три дня штукатурить научился! Беда заставила. Даже буду преподавать шпане это дело. Начальник планово-производственной части снабдил литературой, я заготовил конспекты. Говорит, когда подашь на досрочное освобождение, суд это учтет. А раз так, где наша не пропадала!
Такие дела. Закончим клуб, и дадут новый объект. Начинать придется с нуля, в степи, только вышки по углам. А придешь в барак — ни в ногах, ни под головой. В это воскресенье нас выгнали с постелями из зоны и до двух дня шмонали. Простыл весь. А заболеть в лагере — труба дело. Я еще в тюрьме лежал в больнице. С сорокаградусной температурой не мог в нее попасть, а когда попал, не знал, как вырваться. Палата — та же камера, в которой собраны и туберкулезные, и припадочные, и с язвами всякими. Медсестра в камеру не заходит. Сунет в кормушку блюдечко с таблетками, кричит: «Дежурный! Раздай». А кому чего — неизвестно. Они знают!» И тут на шап-шарап эти таблетки: «Моя желтенькая с полосочкой… Моя зелененькая… Моя беленькая…» Наглотались и лежат довольные, лечатся. Вдруг одного припадок начал колотить. Ему бы укол, а медсестра в камеру не идет. «Ишь вы какие? Чтоб изнасиловали?» Суют припадочного ж… в кормушку. Он бьется, она туда не лезет. По тыкве тогда припадочного — грох! Сделала укол. То ли от укола, то ли порядочно грохнули, утих. Здесь в зоне у нас врачом Жанна Бендеровка. Очень некрасивая. Зэки когда-то ее изнасиловали, а потом посадили на раскаленную плиту. С тех пор она пишет одно за другим заявления на увольнение, но ее не