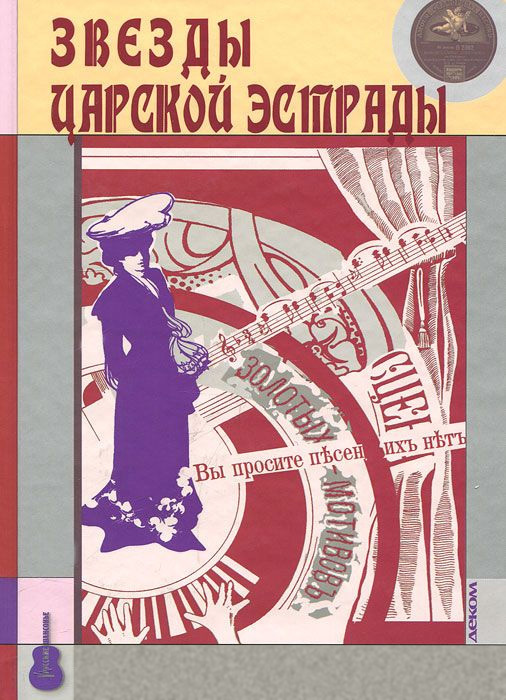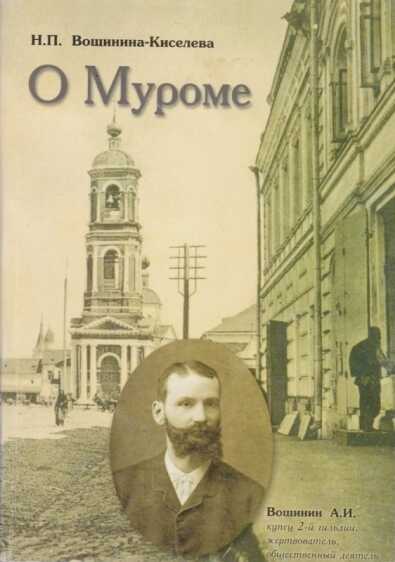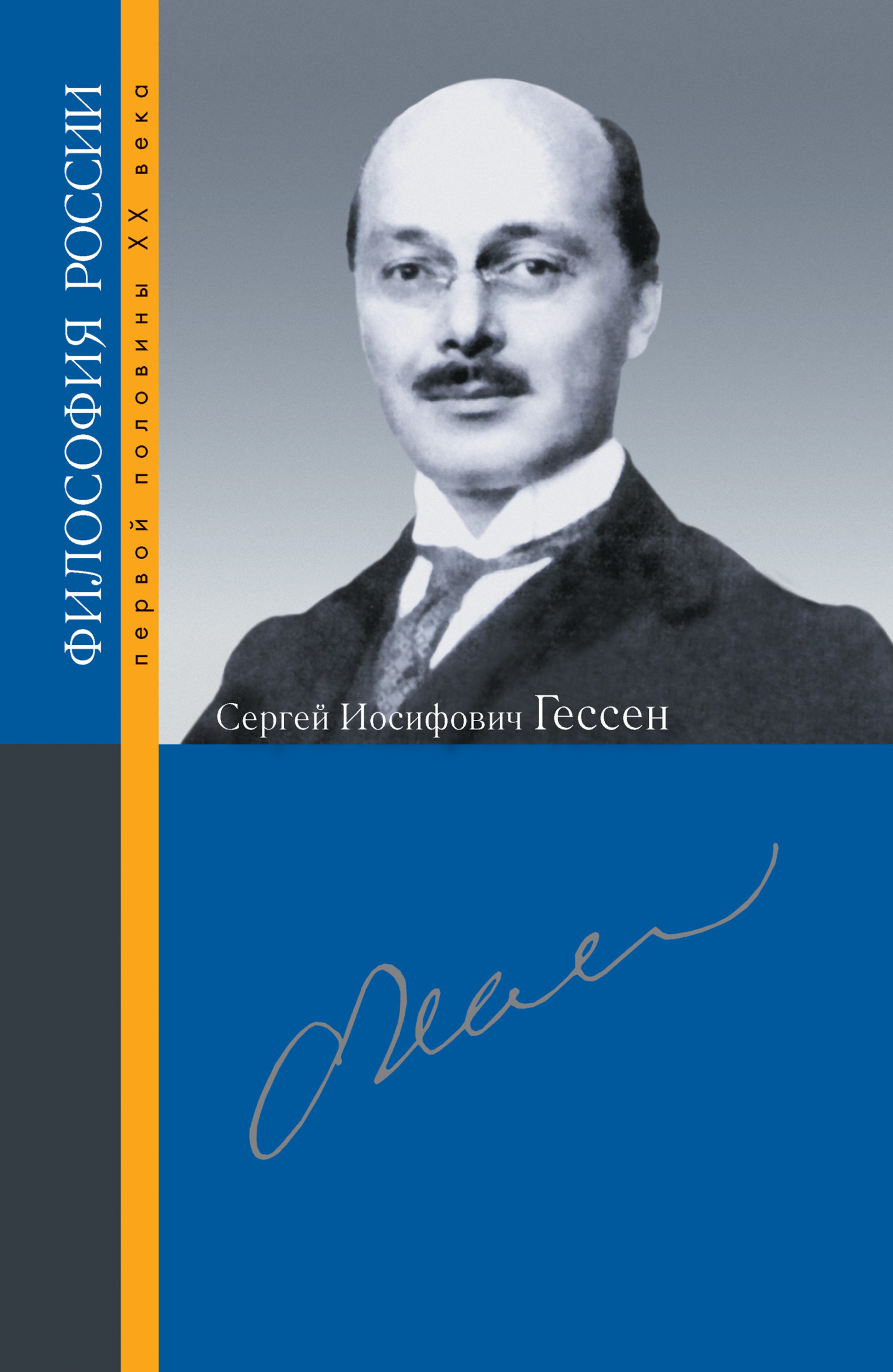дверях нашумел, что сам полицмейстер пришел, да заместо того, чтобы его, бесстыжего, в участок отправить, говорит околоточному: «Вы, говорит, посадите господина Винникова в мой экипаж и покажите ему город Курск. Да на мой счет и угощайте его, сколько его душенька примет, а я концерт слушать пойду». Вот они и гуляли всю ночь. Только-только домой заявился и околоточный с ним, такой же видно, пьянчуга.
– По служебным, – говорит, – обстоятельствам все в порядке, и Николая Васильевича к месту доставил.
К месту доставил!
– А ночевал где? – вдруг подступила Параша к Николаю.
– Вот лютая баба, да уйми ты, Надя, ее, – взмолился Николай. – Пристала, будто я кого обокрал. А ночевал я тут же, в этой самой гостинице, наверху. Господин полицмейстер приказал околоточному, чтобы, значит, денег не жалел, ну он и возил меня, где лучше. А что пьян был, так от радости: Дуню замуж выдавал, сестра Надя приехала. Как тут не выпить.
Приход губернатора прервал их семейный спор. Параша стремительно спряталась в мою спальню, утащив за собой Николая. Губернатор приехал благодарить меня за посещение Курска и взял слово, что я приеду на концерт георгиевских кавалеров. Я слово дала, потому что и цель прекрасная, и приятно побывать в родных местах.
Губернатор ушел, и Параша выбралась из-за ширмы и только стала разбирать по косточкам внешность губернатора, как доложили о приходе полицмейстера.
Словно гром ударил: Параша, ни жива ни мертва, бросилась за ширмы. Ей казалось, что для Николая настал час расплаты. А полицмейстер приехал только для того, чтобы извиниться предо мной, что не пустил брата на концерт.
Я его поблагодарила за это и нашла, что он поступил и мудро и гостеприимно.
Беседуя с ним, я едва удерживала смех, зная, как трепещет за ширмами вчерашний буян.
Как только закрылась за полицмейстером дверь, вышла Параша. Она была свидетельницей моего разговора с таким важным начальством и до того прониклась ко мне уважением, что стала называть меня на «вы».
– Испужал меня до страсти, – говорила Параша, – за Миколаем, думала, пришел.
– Под кровать, дура, вздумала меня прятать, – жаловался Николай.
Я посоветовала им больше не ссориться.
– Все хорошо, что хорошо кончается, – сказала я.
– Дыть ежели ты не серчаешь, стало быть, все и хорошо, – согласился брат.
Я спешила в монастырь к моим старым наставницам, где ждали меня мать и сестра с мужем. Параша помогла моим сборам. Я попросила ее зажечь в спальне свет.
– А серники[34] где лежат? – спросила она.
– Серников не нужно.
– А как же без серников огонь вздую? – усомнилась Параша.
– Поверни ту штучку, – указала я на штепсель, – и люстра загорится.
Она посмотрела на меня с недоверием, думая, что я шучу. Потом с опаской подошла к выключателю и, не решаясь за него взяться, проговорила:
– Неужто правда, если я поверну этакой крантик, огонь загорится?
Тут же быстро повернула, в страхе отскочила и остолбенела пред зажженной люстрой.
– Нечистая сила, Господи Сусе Христе! – Параша, крестясь, отбежала в другой угол.
– Нашла нечистую силу! – язвил Николай. – Тут наука и электричество, а бабе все один черт.
* * *
Выйдя из гостиницы без Николая и Параши, я скоро была у Святых ворот монастыря.
Я быстро поднялась по давно знакомой лестнице, остановилась у чуть приоткрытой двери и сказала:
– Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
– Аминь, – ответил старческий голос, и зашелестели ко мне навстречу мягкие, поспешные шаги.
Сердце мое забилось, я склонила голову, принимая благословение. Белые, тонкие руки монахини нежно обняли меня.
– Здравствуй, Надичка, хорошая, вот и дождались тебя. Спаси тебя, Господи, что нас не забыла, – сквозь слезы говорила матушка Клеопатра.
– Ах ты, наш Паучок милый! – вторила ей матушка Конкордия, крепко обнимая меня.
За столом, на диване, сидела моя мать и утирала умиленные слезы. А старушки хлопотали:
– Ну садись, Надичка, с чайком тебя ждали. Самовар искипелся весь. Уж Акулюша два раза угольков подбрасывала.
– Нет, не сяду, покуда всего не осмотрю.
И побежала я по всем кельям.
Вот диван, на котором спит матушка Конкордия, он же ей и сундук заменяет.
Вот посреди кельи пяльцы с натянутым одеялом. Сколько вечеров просиживала за этими пяльцами монастырка Дёжка, стегая нарядные атласные одеяла! Бывало, работаем мы и распеваем псалмы про «юного отшельника», про «птиц, певцов поднебесных, что своему Господу славу поют», и про Назарея:
Белы ризы златотканы,
Назарею тому даны.
Как тихо и чисто льются наши девичьи голоса! Подпевает матушка Конкордия, трудясь над украшением образов. В раскрытые двери кельи доносятся тихие голоса матушки Клеопатры и матушки Ефимии, вторят старые монашки тихому хору молоденьких послушниц. И льются, льются блаженные песни, и ясно на душе, и сердце наполнено любовью чистой и верой.
Как тогда быстро бежало время в труде и псалмах и как спорилась работа в наших молодых руках!
– А почему пуста келья матушки Ефимии? – очнулась я от воспоминаний на пороге одной кельи.
– В богадельне теперь живет, – ответила мне хроменькая Даша, сестра Конкордии. – Ослепла, состарилась, бедная.
– А где Поля, где Дуня-золотошвейка? – забрасывала я вопросами Дашу.
Она, крестясь, отвечала:
– Умерла Поля, Царство ей Божие. А Дуня ушла из монастыря. Замуж вышла. Такая же прыткая была, как ты.
Старая Даша улыбнулась и погрозила мне:
– Ты хоть недолгонько была в обители, а она-то пятнадцать лет и скуфью уже носила, а вот, вишь ты, искушение какое.
Я обошла все обительские уголки, даже на чердак поднялась и посмотрела на Курск в слуховое окно. В дни юности смотрела я оттуда на жизнь мирскую, когда были заперты монастырские ворота.
В келье матушки Клеопатры весело шумел начищенный самовар, а стол, у которого хлопотала краснощекая Акулюша, был накрыт белоснежной скатертью и уставлен вазочками с разными вареньями да кренделями.
Всего отведать просили гостеприимные хозяева, усадив меня на твердый деревянный диван.
И заворковали вокруг меня три дорогие старушки и забаюкали своей ласковой беседой, а я прилегла, свернувшись клубочком, на плечо матери и почувствовала себя забалованной маленькой Дёжкой.
И казался мне далеким тот шумный мир, из которого я пришла сюда. Далеко все овации, почитатели, поклонники, любопытные, весь утомительный хмель эстрады.
Здесь по-прежнему пред большим киотом трепетно, как дыхание молитвы, теплится неугасимая лампада. По-прежнему с темного киота глядят на меня кроткие, светлые очи Девы Пречистой.
Сколько горячих молитв пред чудным образом Приснодевы вознесла моя юная душа!
– Дай кротости, смирения, укрепи меня, слабую, уразуми неразумную. О Всепетая! – молилась тогда на коленях маленькая послушница Дёжка.
– А я, по