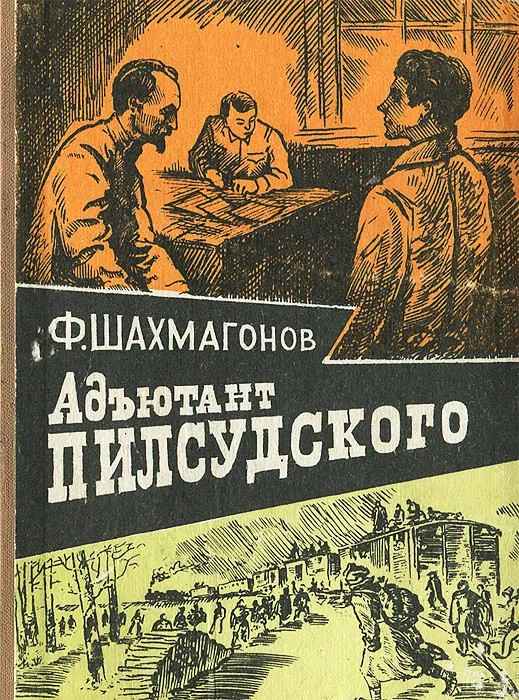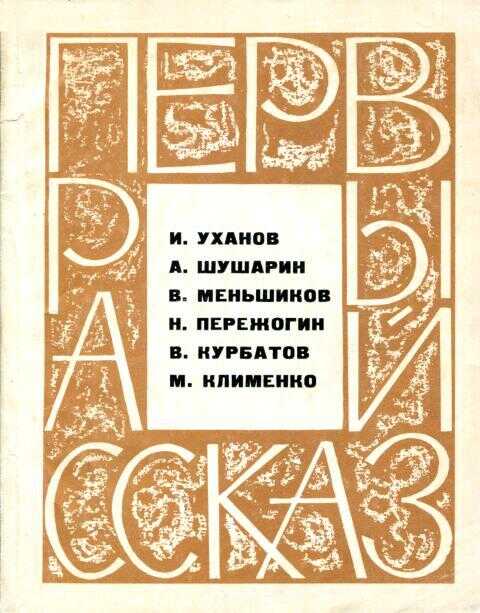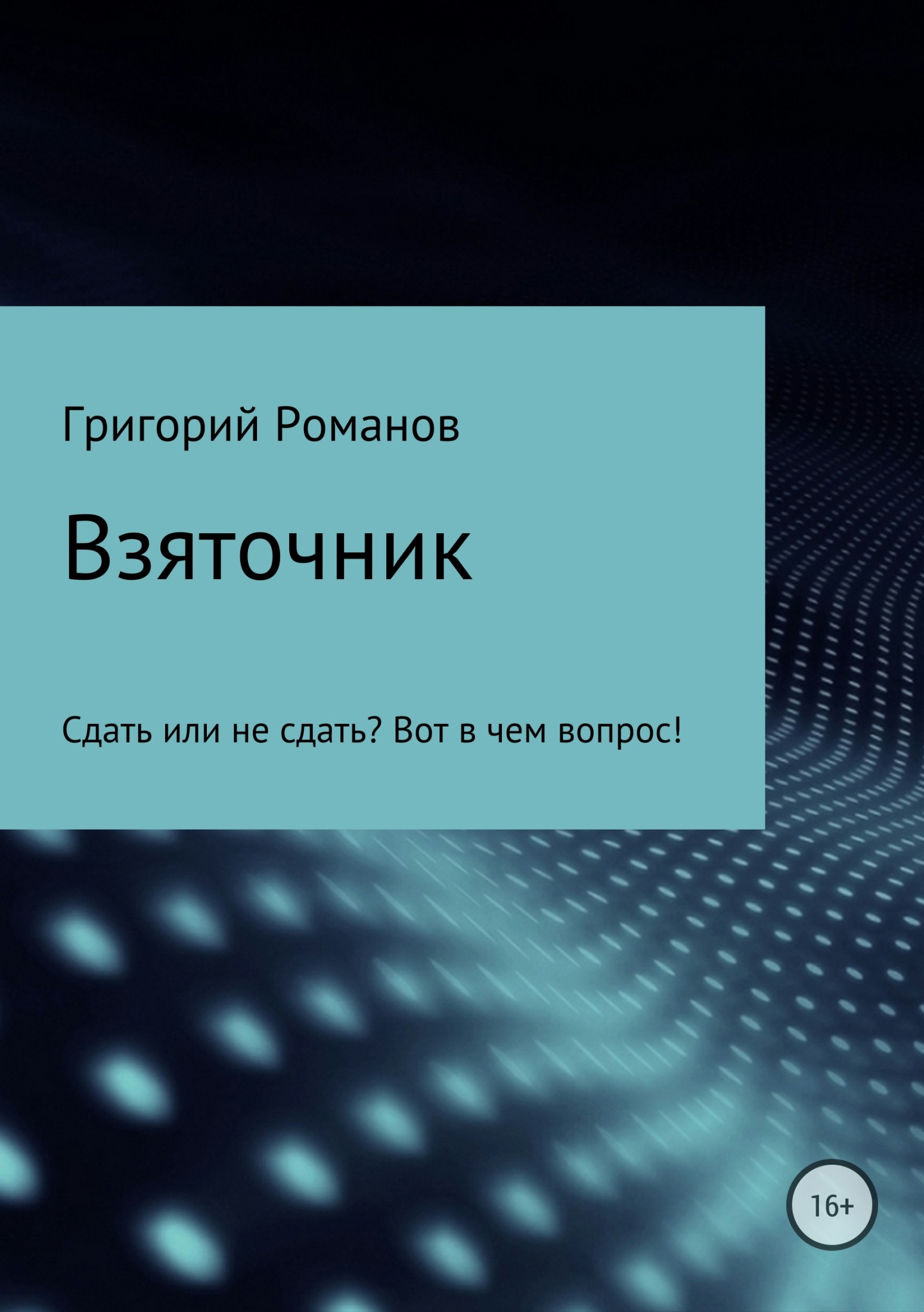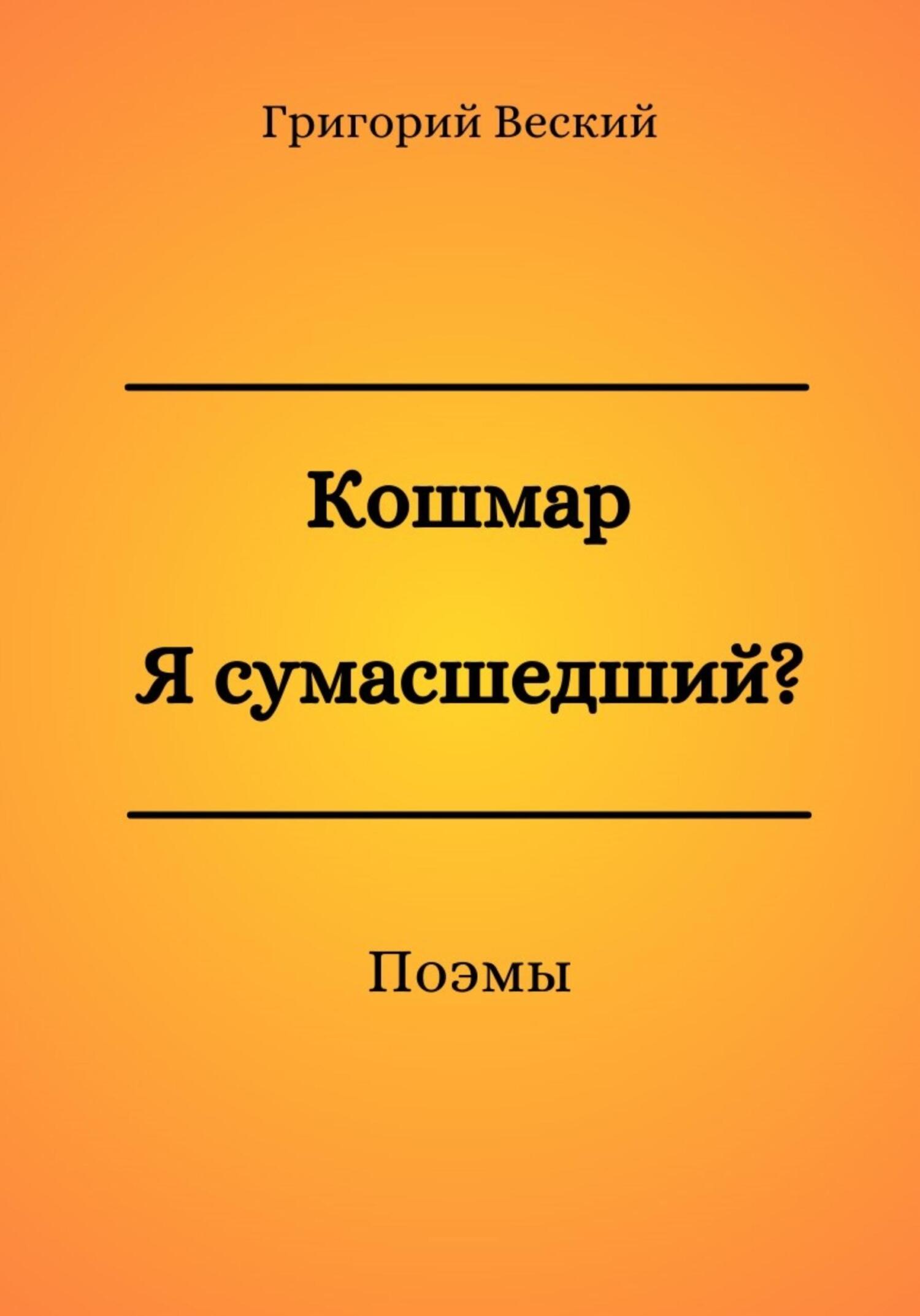думала про себя, насколько Драбкин содержательнее ее Ленечки.
В конце концов вино дошло до кондиции, и в тот день, когда они вдвоем, без Коломбеда, дегустировали его, все и произошло. Отныне Эмма сама устраивала свидания, что было несложно: Драбкин жил в том же корпусе этажом выше.
Ленечка ни о чем не догадывался.
А разговоры уже пошли.
Все чаще Драбкин ловил на себе пытливые взгляды сотрудниц, в курилке участились анекдоты об обманутых мужьях и удачливых любовниках. Однажды в курилку зашел Каштанов; с интересом выкурил трубку, хотя имел негласное право курить где вздумается, поправил рассказчика:
— Любовник — это архаизм. Следует говорить — соискатель ложа. Ась?
После этого случая Драбкин стал реже бывать в курилке, поражая всех усидчивостью и прилежанием.
И тем не менее дела его были не ахти — к концу второго аспирантского года выяснилось, что тема не диссертабельна в связи с ревизией учения Вильямса.
Каштанов настаивал на продолжении работы даже ценой пролонгации. Драбкин взвешивал все «за» и «против».
Надо было немедленно что-то предпринимать.
Драбкин сходил конем: перед самой аттестацией сумел опубликовать статью «Прозрение. Результат с отрицательным знаком», в которой решительно отмежевался и от Вильямса, и от Каштанова, и от собственного исследования.
Каштанов публично назвал его филистером и конформистом.
Молодого, принципиально мыслящего ученого, в прошлом — геолога и целинника, в обиду не дали: зачислили в штат кафедры и утвердили в качестве соавтора по другой теме.
Ленечка Коломбед, узнав наконец правду, стал рассеян, бесшумен, но улыбался, как прежде, по поводу и без повода. На юном его лице появились морщины. Он точно состарился в одночасье, но состарился странно, одною кожей. Впрочем, эти морщины можно было отнести и на счет его неумеренной улыбчивости.
Вскоре Ленечка уехал в Житомир.
Эмма поплакала немного и перебралась к Драбкину. Щекотливая ситуация разрешилась сама собой.
6
Новое замужество, приподнявшее Эмму не только на этаж выше, но и на ступеньку по общественной лестнице, ожидаемого счастья не принесло. После регистрации их отношения утратили для Драбкина былую прелесть. Лишь когда ему удавалось убедить себя, что Эмма по-прежнему жена Ленечки, что Ленечка где-то поблизости, тогда он поражал Эмму прежней пылкостью.
В их браке он занял какое-то неопределенное положение. За годы совместной жизни он так и не свыкся с ролью мужа, а позднее — отца.
Мужем была Эмма.
Она вела хозяйство, она планировала бюджет, и она же в одиночку решала самые разные бытовые проблемы, как, например, вступление в жилищный кооператив, приобретение мебели, ремонт квартиры и тому подобное.
Сначала это тешило ее самолюбие, потом показалось обременительным, а в последний год — противоестественным.
— Я развожусь с тобой, Альберт! — в конце концов объявила Эмма. — Мое терпение лопнуло.
— Право же, Эмма… — проскрипел Драбкин из-под газеты. — Придумала б что-нибудь новенькое…
— Так ты не возражаешь против нашего развода?
— Как тебе сказать, м-м…
— А почему ты не спрашиваешь, почему я с тобой развожусь?
— Потому, потому! — ответил он со ржавым смешком.
— Так я тебе сейчас скажу!
— Что ты мне скажешь, голубчик? Ась?
— Я развожусь с тобой потому, Альберт, что ты не муж, не отец, даже не член семьи!
— А что же?
— Так, соискатель!
Удар попал в солнечное сплетение; Драбкин вскочил, гулко скомкал газету, швырнул в Эмму:
— Дура! Дрянь!
— Каркай сколько угодно. Ворона плешивая. В тебе мужского ни грамма нет!
Брак их был расторгнут без обычных судейских проволочек — истец была Эмма.
Выработав замужем за Драбкиным мужскую хватку, она в два счета выбила себе жилье и, забрав дочку, съехала навсегда.
7
Это случилось семь лет спустя. А тогда Драбкин успешно защитил диссертацию. У него достало ума, чтобы отнестись к делу добросовестно, и хватило усердия, чтобы основные авторы не отказались от его услуг.
Теперь Драбкин доцент, подумывает о докторской.
С некоторых пор он постоянный член приемной комиссии. Здесь в его обязанности входит просмотр личных дел абитуриентов. Послужной список этого поколения способен поразить воображение любого соискателя биографии. Тут и Тюмень, и Тольятти, и Набережные Челны, и Нурек, и БАМ, и пашни Нечерноземья.
— Акселераты! — бормочет он с неприязнью, но автобиографии поступающих читает жадно, волнуясь и раздражаясь.
В последнее время Драбкин частенько прихварывает. Появилась одышка, неладно с печенью, в подглазьях — коричневые мешки.
Во время прогулок он охотно подсаживается к пенсионерам, слушает их рассказы о различных заболеваниях. Ему начинает казаться, что у него все те же симптомы, что и у них; он оживает, вторгается в разговор, спешит поделиться собственными ощущениями.
Его не слушают. Для бывалых хроников он еще не компания: не хватает возраста, двух-трех инфарктов, камней в почках, может быть, частичного паралича. Подчас Драбкину нестерпимо хочется заболеть какой-нибудь уникальной болезнью, сделаться предметом научного изучения и наконец заявить себя.
В поликлинике недавно стал консультировать молодой уролог, по слухам, очень талантливый. Больные нарочно толкутся у служебного хода, чтобы напроситься к нему на внеочередной прием.
Уролог уже несколько раз задерживался взглядом на подглазных мешках Драбкина. На сей раз он даже остановился, более того, испытующе, как некогда профессор Каштанов, заглянул ему под очки.
Неожиданно ткнув пальцем в бок, спросил:
— Больно?
— Н-не…
— А здесь?
— И здесь…
Губы Драбкина растягиваются в улыбку, обнажая редкие, больные зубы. Улыбка старит его.
— Зайдите… завтра! В одиннадцать! — приказывает уролог.
Драбкин по инерции взбегает за ним на крыльцо, но, вовремя спохватившись, спускается вниз и тут в упор глядит на онемевших нефритчиков.
Они отводят глаза.
Вскинув подбородок, Драбкин шествует к своему подъезду.
— Ко-от! — кричит он на весь двор. — Ко-о-от!
И в голосе его, чудится, поют фанфары.
Мостки
1
Дом возвышался посреди новостройки, как остров. Он был обитаем, заселили поздней осенью, по холодам. Строителям зима потрафила: огрехи благоустройства обнаружились только в марте, С приподъездных дорожек, провалившихся в иных местах, но все же бывших твердью, ступить было некуда. Вся строительная грязь — глина, песок, чернозем, — натасканная за зиму колесами самосвалов, башмаками, бульдозеров и тракторов, превратилась в топкое месиво. По обочинам временной дороги еще держался слежавшийся, гранитной крепости снег; по нему можно было кое-как выбраться на автобусную остановку, в магазины, расположенные на другой, обжитой стороне улицы. Но и этот чреватый опасностями путь рухнул за прошедшую ночь, теплую, с дождиком, и дом превратился в остров в буквальном смысле.
У подъездов столпились растерянные жильцы. Под аркой багроволицый комендант Пунтаков, стоя по колено в воде, нашаривал ломиком канализационный колодец.
— Ага… — сказал он и выпрямился, вытирая шею серым офицерским кашне.
Жильцы с надеждой потянулись на его «ага».
— Лопату брось кто-нибудь! — попросил