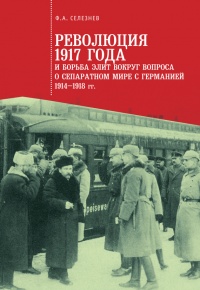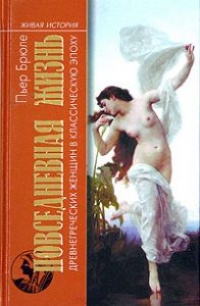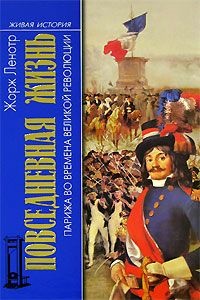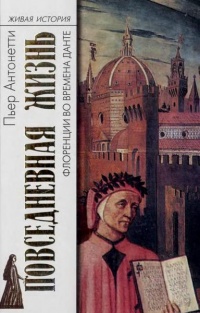Дада запрещает себе судить
Если Тцара и Рибмон-Дессень нехотя, но подчинились, Пикабиа порвал с ними, возвестив об этом в «Комедиа» от 11 мая: «Теперь у Дада есть суд, адвокаты, а вскоре, возможно, появятся и жандармы, и господин Дебле [оператор гильотины]!» Мишель Сануйе справедливо отмечает, что Пикабиа, предоставлявший свою квартиру для первых собраний Дада, «воспринял без всякого неудовольствия, что центр деятельности группы оказался перенесен в Оперный проезд». На самом деле он чувствовал, что власть перешла к Бретону. И, как говорит Рибмон-Дессень, Пикабиа стал противником Дада, «когда оно ему наскучило, то есть когда он перестал играть в нем главную роль».
Бретон писал тогда в письме Дусе (впоследствии он постарается об этом забыть, по меньшей мере на некоторое время): «Всякий, кто знаком с Пикабиа, знает, как глубоко в него проникают подозрения и злоба (чем он и привлекает к себе), и не может удивляться его нынешнему отречению. Этот человек, которого считали чуждым всему, принадлежит своему слепому честолюбию. Уже давно лавры Пикассо не дают ему спать. К тому же он интриган».
Но суд над Барресом выявил и более серьезный раскол. Бретон поручил группе собрать свидетельские показания и вызвать на заседание известных людей. А главное, будучи «председателем суда», он сочинил «обвинительное заключение», четко ставившее его вне Дада. Во-первых, он сводил счеты с отцом. «Книги Барреса попросту нечитабельны, его фраза удовлетворяет только слух… Воспользоваться доверием, завоеванным несколькими удачными поэтическими находками, и обаянием, совершенно отличным от интеллектуального, чтобы заставить слепо принять свои выводы в той области, где эти исключительные способности уже не действуют, есть настоящее мошенничество».
Далее следовало двойное сравнение с Рембо (он ведь избрал «во второй половине своей жизни форму деятельности, внешне никак не связанную с его первой деятельностью») и с Изидором Дюкассом (неявный намек на противоречие между «Стихами» и «Песнями Мальдорора»). Вывод: «Одно из двух: либо стремление к освобождению, выраженное в начале творчества Барреса, у самых истоков оказалось сковано узами, бывшими сильнее его, и в таком случае это всего лишь иллюзия, либо Баррес угодил в ловушку, расставленную ему обществом, польстившись на славу и почет».
Так Бретон подошел к тому, что считал главной темой обсуждения: «Значение чьей-либо жизни — дело не только того, кто ее прожил… Баррес не просто не справился со взятыми на себя полномочиями — блестящее положение, в которое он себя поставил, вкупе с воздействием, по-прежнему оказываемым его трудами, которые он по необъяснимым причинам разрешил переиздать, способны поставить под сомнение ценность всякой революционной деятельности».
Маргерит Бонне ясно показала, каким образом обвинение против Барреса обратилось против Тцары: «Если все равно всему, если «да» и «нет», «за» и «против» равноценны, если можно одновременно выдвигать противоположные предложения, как это делает Тцара, — с какой стати упрекать Барреса за отречение от своего изначального стремления к нравственному и социальному освобождению?» Тем более что Бретон расставляет точки над «й»: «Идеи не имеют значения сами по себе; они значимы лишь благодаря смыслу, который мы в них вкладываем». А Тцара как раз и отрицал всякий смысл, видя в этом сущность Дада.
Впоследствии это обвинительное заключение стало свидетельством разрыва. Вероятно, он был вызван всего лишь потребностью внести ясность, необходимостью свести всеобщее отрицание Дада к отрицанию того, что в «предательстве» Барреса было продиктовано «возвращением к порядку». Не будем забывать, что возвращение к порядку тогда свирепствовало вовсю, от избрания «серо-голубой»[64] палаты до жестокого подавления крупных забастовок. Кстати, суд над Барресом будет воспринят именно с этих позиций. Вырезки из газет, собранные Маргерит Бонне, не оставляют на этот счет никаких сомнений. «Пресса», 14 мая: «Столько низости, подлости и грубости в фарсе должно естественным образом возмутить всех, у кого душа француза». «Жюстис», 15 мая: «Давно пора проверить документы у этих господ». «Матен»: «Дада перегибает палку. В порядке ли паспорт у этого шумного иностранца?»
Бенжамен Пере в роли неизвестного солдата
На самом деле во время этого судебного процесса Дада проявило себя не в шутовской выходке Тцары, который, вызванный в качестве свидетеля, превратил прения в фарс (к великой досаде Бретона), а в запланированном появлении Бенжамена Пере в образе неизвестного солдата. Пере, родившийся в 1899 году под Нантом, ушел в армию как раз перед войной и всю войну провалялся по госпиталям, вплоть до Салоник. Макс Жакоб представил его Пикабиа. Пере совершенно естественным образом нашел в Дада выход для своего бунтарского духа и вложил в роль всю душу: на нем были немецкая форма и противогаз, он говорил по-немецки и ходил строевым шагом.
Именно это и привело благомыслящую прессу в состояние шока. «Либерте», 16 мая: «В тот вечер в Париже был разыгран гротескный, глупый и непристойный балаган… Ужасное, отвратительное представление неизвестного солдата перешло уже всякие границы». Газете «Опиньон» он даже показался «одетым в серо-голубое… издающим непристойные выкрики». «Комедиа» защищала «символ, который являет собой неизвестный солдат для подавляющего большинства французов».[65] Надо подчеркнуть, что в газете крайне левых «Журналь дю пёпль» мнения разошлись: если Альсест видел в Дада «дитя вырождения наших буржуа, гуляк и сифилитиков… Пусть Дада замолчит!», то Альфред Варела, уже заявивший о себе как коммунист, напротив, одобрял его: «Прежде чем строить новое, надо разрушить старое. Да-да разрушает, смущает, пугает. Дада участвует в нашем движении… Пусть Дада не молчит!»
Таким образом, суд одновременно стал мобилизацией и своего рода пароксизмом противоречий внутри Дада. Впоследствии напряжение спало, тем более что хула в прессе только сплотила группу, а с приближением каникул предстояло вновь вернуться к повседневной жизни и мукам одиночества.
Бретон в июне уехал в Лориан, к своим, с совершенно приземленными проблемами. Ему нужно было найти постоянную работу, чтобы он смог жениться на Симоне; Жак Дусе дал ему такую возможность, взяв его в июле к себе в секретари. Он не присутствовал на Салоне Дада, который Тцара организовал в галерее Монтеня. Зато Супо и Элюар были среди приглашенных. Элюар все больше сближался с Тцарой и показал это, возродив ради одного-единственного выпуска свой журнал «Проверб». Тем временем Бретон тоже все больше и больше интересовался живописью и бывал на распродажах произведений из собраний Уде и Канвейлера. Он приобрел практически даром рисунки, аппликации и полотна Пикассо, Брака и Гриса.
Арагон же, невозмутимо продолжавший изучать медицину, нарушил кодекс Дада еще более явно. В марте он издал «Анисе» — ложный роман, но роман же, плод литературной деятельности, осуждаемой «групповой моралью», да к тому же опубликованный в НФО. В июльском номере этого журнала Дриё Ла-Рошель из дружеского участия еще больше усугубил его проступок: «Луи Арагон не начинает, он заканчивает… Арагон кончает. Арагон ликвидирует. И это еще соответствует разрушению движения Дада, намерению ликвидировать формы XIX века, распродать с молотка метафоры, формулировки… Берегитесь будущего Арагона».