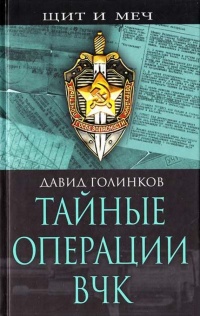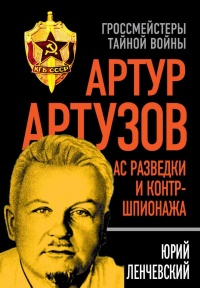Я хотел бы только, чтобы никто не подумал обо мне дурно, чтобы верил в искренность моих чувств и твердость моих убеждений до конца. Помилование я считал бы позором. Простите, если в моем поведении вне партийных интересов были какие-либо неровности. Я пережил довольно острой муки по поводу нелепых слухов о свидании с великой княгиней, которыми меня растравляли в тюрьме. Я думал, что я опозорен… Как только я получил возможность писать, я написал письмо великой княгине, считая ее виновницей сплетни. Потом, после суда, мне было неприятно, что я нарушил свою корректность к великой княгине… На суде я перешел в наступление не вследствие аффекта, а потому, что не видел другого смысла: судьи, и особенно председатель, действительно мерзавцы, и мне просто противно открывать что-нибудь им из моей души, кроме ненависти. В кассационной жалобе я старался провести строго партийный взгляд, и думаю, что ничем не повредил интересам партии своими заявлениями на суде. Я заявил, что убийство великого князя есть обвинительный акт против правительства и царского дома. Поэтому в приговоре вставлено «дядя его величества». Я написал в кассационной жалобе, что в деле против великого князя мне не было нужды действовать против личности его как племянника, и потому заявил протест, имея в виду будущий процесс…
Обнимаю, целую вас. Верьте, что я всегда с вами до последнего издыхания. Еще раз прощайте.
Ваш И. Каляев».
В личном письме к одному из товарищей он, тревожась тенденциозной передачей в газетах своего свидания с великой княгиней, писал из тюрьмы:
«27/4. Мой дорогой, прости, если в чем-либо я произвел на тебя дурное впечатление. Мне очень тяжело подумать, что ты меня осудишь. Теперь, когда я стою у могилы, все кажется мне сходящимся для меня в одном – в моей чести как революционера, ибо в ней моя связь с Боевой организацией за гробом. В четырех стенах тюрьмы трудно ориентироваться в важном и неважном. Минутами мне кажется, что кто-нибудь злой оскорбит мой прах пасквилем. Тогда я хотел бы жить для того, чтобы мстить за мою идею. Но, – ты знаешь, – я кончил все земные счеты. Я любил тебя, страдал и молился с тобой. Будь же ты защитой моей чести. Быть может, я бывал чересчур откровенен с людьми относительно своей души, но ты знаешь, что я не лицемер. В. И. и всем нашим кланяйся. Прощай, мой дорогой, единственный друг. Будь счастлив! Будь счастлив!»
VII
Каляева судили в Особом присутствии Сената 5 апреля 1905 года. Защищали его присяжные поверенные Жданов и Мандельштам. Жданов близко знал Каляева еще по Вологде и сказал в защиту его одну из лучших речей в истории русских политических процессов. Но еще более замечательную речь сказал сам Каляев:
«Прежде всего, фактическая поправка: я – не подсудимый перед вами, я ваш пленник. Мы – две воюющие стороны. Вы – представители императорского правительства, наемные слуги капитала и насилия. Я – один из народных мстителей, социалист и революционер. Нас разделяют горы трупов, сотни тысяч разбитых человеческих существований и целое море крови и слез, разлившееся по всей стране потоками ужаса и возмущения. Вы объявили войну народу, мы приняли вызов. Взяв меня в плен, вы теперь можете подвергнуть меня пытке медленного угасания, можете меня убить, но над моей личностью вам не дано суда. Как бы вы ни ухищрялись властвовать надо мной, здесь для вас не может быть оправдания, как не может быть для меня осуждения. Между нами не может быть почвы для примирения, как нет ее между самодержавием и народом. Мы все те же враги, и если вы, лишив меня свободы и гласного обращения к народу, устроили надо мной столь торжественное судилище, то это еще нисколько не обязывает меня признать в вас моих судей. Пусть судит нас не закон, облеченный в сенаторский мундир, пусть судит нас не рабье свидетельство сословных представителей по назначению, не жандармская подлость. Пусть судит нас свободно и нелицеприятно выраженная народная совесть. Пусть судит нас эта великомученица истории – народная Россия.
Я убил великого князя, члена императорской фамилии, и я понимаю, если бы меня подвергли фамильному суду членов царствующего дома, как открытого врага династии. Это было бы грубо и для XX века дико. Но это было бы, по крайней мере, откровенно. Но где же тот Пилат, который, не омыв еще рук своих от крови народной, послал вас сюда строить виселицу? Или, может быть, в сознании предоставленной вам власти, вы овладели его тщедушной совестью настолько, что сами присвоили себе право судить именем лицемерного закона в его пользу? Так знайте же, я не признаю ни вас, ни вашего закона. Я не признаю централизованных государственных учреждений, в которых политическое лицемерие покрывает нравственную трусость правителей и жестокая расправа творится именем оскорбленной человеческой совести, ради торжества насилия.
Но где ваша совесть? Где кончается ваша продажная исполнительность и где начинается бессеребренность вашего убеждения, хотя бы враждебного моему? Ведь вы не только судите мой поступок, вы посягаете на его нравственную ценность. Дело 4 февраля вы не называете прямо убийством, вы именуете его преступлением, злодеянием. Вы дерзаете не только судить, но и осуждать. Что же вам дает это право? Не правда ли, благочестивые сановники, вы никого не убили и опираетесь не только на штыки и закон, но и на аргумент нравственности? Подобно одному ученому профессору времен Наполеона III, вы готовы признать, что существуют две нравственности. Одна для обыкновенных смертных, которая гласит: “не убий”, “не укради”, а другая нравственность политическая для правителей, которая им все разрешает. И вы действительно уверены, что вам все дозволено и что нет суда над вами…
Но оглянитесь: всюду кровь и стоны. Война внешняя и война внутренняя. И тут, и там пришли в яростное столкновение два мира, непримиримо враждебные друг другу: бьющая ключом жизнь и застой, цивилизация и варварство, насилие и свобода, самодержавие и народ. И вот результат: позор неслыханного поражения военной державы, финансовое и моральное банкротство государства, политическое разложение устоев монархии внутри, наряду с естественным развитием стремления к политической самодеятельности на так называемых окраинах, и повсюду всеобщее недовольство, рост оппозиционной партии, открытые возмущения рабочего народа, готовые перейти в затяжную революцию во имя социализма и свободы, и – на фоне всего этого – террористические акты… Что означают эти явления?
Это – суд истории над вами. Это – волнение новой жизни, пробужденной долго накоплявшейся грозой, это – отходная самодержавию… И революционеру наших дней не нужно быть утопистом-политиком для того, чтобы идеал своих мечтаний сводить с небес на землю. Он суммирует, приводит к одному знаменателю и облекает в плоть лишь то, что есть готового в настроениях жизни, и, бросая в ответ на вызов в бою свою ненависть, может смело крикнуть насилию: я обвиняю!
…Великий князь был одним из видных представителей и руководителей реакционной партии, господствующей в России. Партия эта мечтает о возвращении к мрачнейшим временам Александра III, культ имени которого она исповедует. Деятельность, влияние великого князя Сергея тесно связаны со всем царствованием Николая II, от самого начала его. Ужасная ходынская катастрофа и роль в ней Сергея были вступлением в это злосчастное царствование. Расследовавший еще тогда причины этой катастрофы граф Пален сказал, в виде заключения, что нельзя назначать безответственных лиц на ответственные посты. И вот Боевая организация партии социалистов-революционеров должна была безответственного перед законом великого князя сделать ответственным перед народом.