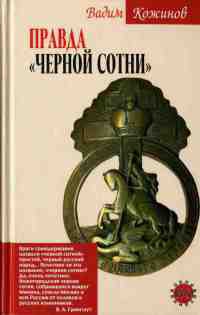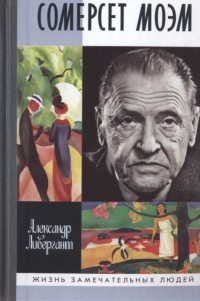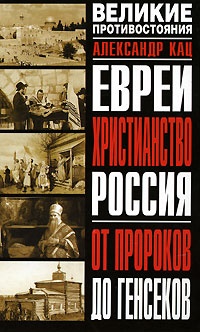В романе Грасса символическим воплощением преступлений этого «нацистского мессианства» выступает гора человеческих костей у лагеря Штутгоф. Но в своей публицистике Грасс чаще всего упоминает Аушвиц — Освенцим. «Мимо Освенцима нам не пройти, — писал он в 1990 году в еженедельнике «Цайт». — Мы не должны, как нас ни тянет, даже пытаться совершить подобный насильственный акт, ибо Освенцим неотделим от нас, он является вечным родимым пятном нашей истории, и — это благо! — именно он сделал возможным один вывод, который можно сформулировать так: “Теперь наконец-то мы знаем самих себя”». Так с почти полувековой дистанции обозначил Грасс важнейшую особенность литературного развития в ФРГ: его незатухающую связь с историческим, этическим, художественным осмыслением трагического национального опыта.
В атмосфере 1950-х годов в ФРГ и в самом деле было трудно, судя по бесчисленным отзывам о том времени, писать и говорить всю правду о войне и фашизме и, главное, о их преодолении, о неистребимых корнях прошлого, особенно на фоне раздраженных восклицаний: «Ну сколько же можно! Забудем и никогда больше не станем вспоминать!» Забыть действительно пытались очень многие, и те, кто совершал преступления, и те, для кого прошлое было травмой, которую хотелось навсегда вытолкнуть из памяти. Но именно благодаря немецким писателям мы знаем и понимаем, что такое фашизм, каким он был и каким снова станет, дай ему волю. Трудно не быть благодарным за эти уроки. Сейчас очевидно, что такие люди, как Бёлль или Грасс, Ленц или Андерш и другие, хранили эту память не только для немцев. О вине и ответственности они напоминали не одним лишь соотечественникам.
Чувствуя свою вину и пытаясь вытеснить ее, грассовский Матерн не только мстит абсурдным образом былым носителям всё того же «коллективного мессианства». Он испытывает глубочайшее отвращение к амзелевско-браукселевским пугалам. Ведь еще в ранней юности он с ужасом увидел в одном из пугал себя. Позднее, уже будучи членом СА, он узнал себя уже в целой группе пугал, одетых в форму штурмовиков, и тогда-то он избил — или убил? — автора. А когда пугала открываются ему как воплощение всех человеческих пороков, когда он обнаруживает заполненный пугалами в образе людей гигантский подземный завод, он снова испытывает гнев и ненависть, потому что готов обвинять во всех смертных грехах других, но только не себя. Он убивает пса Харраса, пытаясь убить свое прошлое, и — если бы мог — разобрался бы с пугалами, населяющими Подземный мир.
Грасс неоднократно говорил о том, что основу созданных им образов составляет «амбивалентность, двузначность нашего времени». Не только Оскар Мацерат, но и Амзель, и особенно Матерн ярко воплощают феномен «двойного существования». Обстоятельства жизни, эпохи, считал известный немецкий исследователь литературы Ханс Майер, делают неизбежной форму «двойной жизни»: «разделение немца на отца семейства и чиновника, любителя ферейнов и короля стрелков, друга музыки и исполнителя приказов». Оскар — младенец и взрослый, жертва и обидчик, несчастный гном и злой предатель. Трубач Мейн — неплохой музыкант и активист Хрустальной ночи, средний обыватель и яростный приверженец нацистских военизированных отрядов.
Матерн, который «всё время ищет бога, а находит лишь экскременты», заключает со сверстником «кровный братский союз», а потом выбивает ему зубы. В зависимости от политической обстановки он, как и миллионы его соотечественников, «был красным, потом надел коричневое, потом ходил в черном (то есть принадлежал к СС), потом снова перекрасился, став чем-то вроде “красного”». «Плюньте на меня: вот моя всесезонная одежда, перестегивающиеся подтяжки… сверху лысый, внутри полый, снаружи обвешанный кусками материи, красными, коричневыми, черными…»
Но и Амзель, «золоторотик», ставший владельцем концерна Браукселем: жертва, а потом приспособившийся к «рыночному хозяйству» извлекатель прибыли, талантливый создатель пугал, за которыми проглядывает уже не только немецкий обыватель, склонный к конформизму, но и все человечество — катастрофическая аллегория, которая позднее в еще более отчаянном варианте возникнет в романе «Крысиха»…
Всё оказывается двойственным и взаимозаменяемым: столь любимый Гитлером пес происходит от волчицы, и потому постоянно маячит опасность собачьего перерождения. И одновременно пес как бы меняется местами с человеком. Харрас, отец Принца (который потом станет Плутоном), оказывается своего рода кумиром: у него берут интервью, группа пимпфов присваивает себе его имя, целые школьные классы спешат нанести ему визит. И вот уже «Принц делает историю».
«Собака — в центре» — это не просто одна из грассовских афористических формул: как в годы войны жизнь немцев превращается в «собачью жизнь», так и ощутимо возникает угроза, что весь мир превратится в некий устрашающий «собачий хоровод». Столь же универсальной предстает и история пугал: 32 зала подземного завода, где производятся пугала на любой вкус, не просто соответствуют количеству выбитых у Амзеля Матерном зубов и ожидающей Матерна мести «зуб за зуб». Пугала тоже становятся частью некоего универсума, «космоса пугал», угрожающего вытеснить человека, который ведет себя одновременно трусливо и брутально, испуганно и бесчеловечно.
В конце 1960-х годов Грасс в журнале «Шпигель» высказывался по поводу некоторых проблем, затронутых в романе. «В “Собачьих годах” в образе Матерна мне удался, как мне кажется, носитель немецких идеалистических идей, который за короткое время… ищет спасительное учение в коммунизме, национал-социализме, католицизме и, наконец, в идеологическом антифашизме. В конце он фашистскими методами занимается на свой манер антифашизмом».
Персонажи Грасса — люди со множеством лиц, смена которых определяется обстоятельствами времени, событиями и окружением, требованиями, предъявляемыми на каждом конкретном повороте истории. Внешние обстоятельства полностью лишают их индивидуального начала, они готовы мимикрировать, приспособиться ко всему, воплощая утрату идентичности, характера и всякой внутренней свободы, что завершается полным исчезновением личности. При таком взгляде устрашающие грассовские гротески уже не кажутся плодом избыточной фантазии и беспредельного писательского изобретательства. Как отмечали еще в 1960–1970-е годы многие западногерманские критики (Р. Баумгарт, В. Йенс, Г. Майер и др.), героем романа всё реже становится одинокий индивидуалист, чуждый окружающему миру. Его вытесняет «средний человек» со стандартным сознанием.
Такие фигуры уже не являются, как в «старом романе», неповторимыми индивидуальностями. Напротив, эти вялые «антигерои» олицетворяют посредственность, «всеобщую обезличенность», в условиях которой человек уже не действует в соответствии со своими моральными принципами, а подчиняется обстоятельствам, заранее предопределенному ходу вещей.
Но именно такого героя Грасс никогда не оправдывал. Он категорически отметал формулу «виновато общество», а человек, мол, не виноват. Он и сам-то казнился всю жизнь, что еще в юности «не задавал вопросов», которые необходимо было задавать. Тем более он не снимал вины со своих героев.
И потому столь очевидна доминанта «Данцигской трилогии». Это ненависть к фашизму, любым диктаторским режимам, тоталитарным системам и неприязнь к «душному» обывательскому мирку, который неизменно проявляет рабскую готовность прогнуться и приспособиться к власти; это осознание вины и ответственности за содеянное немцами в годы нацизма.