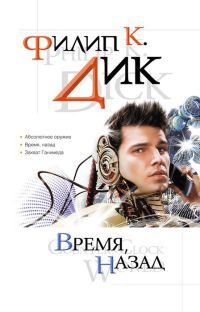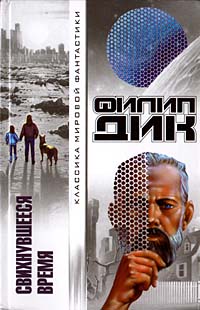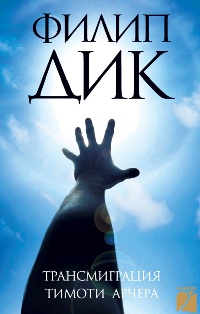Эпплквиста затрясло.
– Они нас убивали – беспощадно. Миллионы людей погибли, но потом мы их одолели. А они убивали, лгали, прятались, крали – все что угодно делали, лишь бы выжить. Либо они нас, либо мы их – вот как оно было на самом деле. – И Лоуз ухватил Эпплквиста за воротник: – Ты, чертов придурок! Что ты натворил, отвечай?! Что ты наделал?!
Солнце садилось, когда бронированный вездеход с ревом подъехал к оврагу. Из машины выскочили спецназовцы и помчались вниз по склонам, держа С-винтовки наготове. Лоуз тоже быстро выбрался наружу, Эпплквист вылез следом.
– Это здесь? – резко спросил директор.
– Да, – поник плечами Эпплквист. – Но он ушел.
– Тут искать больше нечего. Заложите тактическую атомную бомбу и валим отсюда. Возможно, его сумеют заметить с воздуха. Плюс распылим радиоактивный газ на местности.
Эпплквист на негнущихся ногах подошел к краю оврага. Внизу, в сгущающейся темноте, все так же колыхалась трава и лежал мусор. А робота, конечно, уже и след простыл. А там, где он лежал, валялись обрезки проволоки и брошенные части тела. Старый блок питания виднелся там же, куда Эпплквист его закинул. А вон пара инструментов. И все.
– Давайте поживее, – приказал Лоуз своим людям. – Пора убираться отсюда. У нас дел полно. Объявите общую тревогу.
Спецназовцы принялись выбираться из оврага. Эпплквист пошел было за ними к вездеходу, но Лоуз быстро сказал:
– Нет. Ты с нами не идешь.
Эпплквист увидел их лица – из-под них пузырился страх. Панический ужас и ненависть. Он повернулся и побежал, но они накинулись на него всей толпой. Били молча, с мрачной решимостью. А когда закончили, отбросили в сторону еще живое тело и забрались в вездеход. С грохотом захлопнули двери, завели мотор. С ревом машина поехала по тропе – обратно к дороге. Через несколько мгновений она растворилась в темноте и все стихло.
Он остался один, рядом с полузакопанной бомбой, среди густеющих теней. И с огромной пустой чернотой, заливающей окружающий мир.
Экспонат с выставки
– Что это на вас за странный костюм такой? – поитересовался механический водитель робовтобуса.
Машина отодвинула дверь и подъехала к тротуару.
– Что за круглые штучки? Для чего они?
– Это пуговицы, – охотно объяснил Джордж Миллер. – Они могут быть декоративными, но чаще имеют практическую нагрузку. Это старинный костюм двадцатого века. Я его ношу по долгу службы.
Он заплатил роботу за проезд, прихватил «дипломат» и быстро зашагал по тротуару к Агентству по делам истории. Главное здание уже открыли для публики, одетые в комбинезоны мужчины и женщины уже бродили по выставкам. Миллер зашел в лифт для персонала, с трудом втиснулся между двумя здоровенными инспекторами из отдела Дохристианских культур, и лифт повез его наверх, на этаж Середины двадцатого века.
– Доброго утречка, – пробормотал он, приветствуя инспектора Флеминга у выставки атомного оборудования.
– И вам того же, – резко ответил Флеминг. – Миллер, послушайте, что я вам хочу сказать. Вот сейчас скажу – и больше этот вопрос поднимать не буду, так и знайте. Вот сами подумайте: а что если бы все одевались так же, как вы? Между прочим, наше правительство, чтоб вы знали, устанавливает четкие правила насчет одежды, в которой могут появляться граждане. Черт бы побрал эти ваши анахронизмы, вы что, не можете обойтись без дурацкого маскарада? И – боже правый! – что у вас в руках?! Иисусе, да это же точь-в-точь раздавленная ящерица из юрского периода!
– Это чемоданчик-«дипломат» из кожи аллигатора, – объяснил Миллер. – Я ношу в нем бобины с данными для исследования. Между прочим, «дипломат» являлся важным символом статуса и авторитета в менеджерском классе позднего двадцатого века.
И он щелкнул застежками, открывая чемоданчик.
– Вот вы, Флеминг, никак понять не можете. А ведь я приучаю себя к ношению вещей из исследуемого периода не просто так! Именно таким образом, в силу привычки, интеллектуальное любопытство трансформируется в подлинную эмпатию! Вы часто замечаете, что я некоторые слова прозношу странно. А я, между прочим, имитирую акцент американского бизнесмена времен президента Эйзенхауэра! Ферштейн?
– Чего? – ошарашенно пробормотал Флеминг.
– Это я сленговое словечко из двадцатого века употребил!
И Миллер принялся выкладывать катушки на стол.
– Может, вам что-нибудь подсказать? А если нет, позвольте мне, пожалуйста, приступить к работе. Я тут обнаружил доказательства тому, что американцы двадцатого века самостоятельно укладывали плитку, но – представьте себе! – вовсе не ткали одежду! Я бы хотел изменить кое-что в экспозиции…
– Все вы фанатики, все как один, – проскрипел Флеминг. – Ис-с-сторики… копаетесь в пыльных артефактах двухсотлетней давности, а до настоящего вам и дела нет! В голове только всякие идиотские штуки, копирующие идиотские штуки из пыльного прошлого!
– А мне моя работа нравится, – примирительным тоном сказал Миллер.
– Да я ж не на твою работу жалуюсь! Просто есть же еще что-то, кроме работы! Ты же в социуме живешь, и как единица социума имеешь политико-социальные обязанности! Так что, Миллер, считай, что я тебя предупредил. В Совет Директоров уже поступали сигналы насчет твоих странностей. Нет, конечно, рвение на работе мы всячески приветствуем, но… – тут Флеминг красноречиво прищурился –…ты слишком далеко заходишь, Миллер.
– Да не будет у меня другого господина, кроме искусства, – торжественно произнес Миллер.
– Чего-чего?! Кроме кого-кого?
– Кроме искусства. Это слово из языка двадцатого века.
И Миллер оглядел собеседника с нескрываемым превосходством:
– Вы просто крохотный винтик в огромной бюрократической машине. Функция безличного культурного сообщества. У вас нет собственных представлений о жизни. А в двадцатом веке у каждого человека были представления о прекрасном. О том, как и что можно делать своими руками. Они испытывали гордость, видя то, что мастерили. А вам эти слова ничего не говорят. У вас даже души нет – а это, кстати, другое понятие из золотого века, каким был век двадцатый, когда люди были свободны и могли говорить то, что думают.
– Миллер, не забывайся! – Флеминг даже побледнел от испуга и понизил голос. – Чертовы ученые… Живете, уткнувшись в свои катушки с лентами, жизни ни черта не видите! Смотри, доболтаешься до того, что нас всех из-за тебя по головке не погладят! Ты можешь сколько угодно носиться со своим драгоценным двадцатом веком. Но помни – прошлое, оно и есть прошлое. Оно прошло. Все, нет его, похоронили. Времена меняются. Общество прогрессирует! – и он нетерпеливо обвел рукой экспозицию. – Это всего лишь неумелая имитация того, что там на самом деле было!