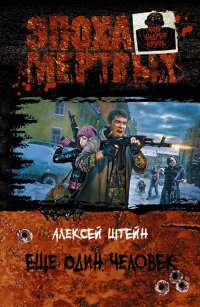Старуха нагнулась, и Марго увидела — близко-близ-ко — ее потемневшие встревоженные глаза. Но старухин голос был уже прежним, спокойным и немного ворчливым:
— Я не знаю, ЧТО ты сделала, девочка… ты расскажешь мне об этом потом. Но сегодня ты едва не убила себя… и этого бы не случилось, если бы ты хорошенько слушала все, чему я тебя пыталась научить…
— Его звали… зовут Янош… Янош-плотник, ты, наверное, знаешь? — Марго осторожно отодвинула от себя глиняную кружку с до смерти надоевшим горьким травяным настоем.
Прозрачный летний вечер незаметно перетекал в ночь, и в узком проеме окна все ярче и маслянее ухмылялась щербатая желтая луна, и тянуло прохладой из приоткрытой двери.
— Знаю, — кивнула старуха.
— …Ну, он еще приходил, санки зимой чинил и перила на лестнице…
— …и игрушки для детей…
— Что? — удивилась Марго.
— Игрушки, — повторила старуха, и Марго показалось, что та улыбается. Ей показалось, что сумерки прячут улыбку на тонких старухиных губах — потому что старухин голос стал другим — мягким и задумчивым. Непривычным.
— Он вырезал из дерева игрушки и раздавал их. И иногда чужим детям он дарил более красивые игрушки, чем своему сыну. В деревне его считают немного странным. Это хороший человек, Марго.
Марго растерянно вглядывалась в темноту, пытаясь разглядеть старухино лицо и глаза, взгляд которых она чувствовала даже сейчас — когда они были невидимы. Интересно, откуда старуха знает это все, если она никогда не была в деревне? Или была? Марго знала, что иногда из деревни по тайной тропинке вокруг болота прокрадывалась какая-нибудь баба с подношением в узелке — куском сыра или вяленого мяса или полудюжиной свежих яиц; и, украдкой крестясь и испуганно тараща глаза, стучалась в дверь приземистой старухиной хижины. Тогда старуха приказывала Марго сидеть тихо («не годится, чтобы тебя здесь кто-нибудь застал, девочка») и выходила поговорить с посетительницей. Но Марго сомневалась, что при этом они обменивались деревенскими сплетнями.
Обычно разговор был тих — старуха вообще умела говорить почти беззвучно, так, что ее слышал только тот, к кому она обращалась; и только собеседница ее иногда причитала что-то слезное, жалобное и отчаянное. Потому что только с отчаяния, когда уже перепробовано все остальное, бабы отваживались на долгий путь к «ведьминой избушке». А назад от избушки уходили уже осмелевшие и успокоенные, сами дивясь на себя — и чего уж такое совсем недавно просто перекручивало их изнутри и жизнь казалось конченой — неужто и правда заговорила беду ведьма? — и бережно и благоговейно прижимали к животу полученное лекарство — травку, или мазь, или отвар, или просто «заговоренную» водицу в глиняном ковшике.
Они обычно торопились, опасаясь лишний раз обернуться на «ведьмину избушку», а потому не видели, как, побледнев и сгорбившись, словно постарев в один миг, старуха ковыляет к дому, хватаясь дрожащей рукой за сипло дышащее горло — задыхаясь от той самой болезни, от которой только что «заговорила» свою посетительницу.
Марго испугалась до полусмерти, когда впервые увидела старуху такой.
— Ты меня спрашивала, как я лечу людей? — сказала тогда старуха, немного отдышавшись и придя в себя. — Вот так. Только так. Видишь ли, девочка, болезни — это… ну, как репейники — цепляются к тебе непонятно откуда, и пока ты отдираешь их от одежды, они липнут к твоим рукам и намертво запутываются в волосах. А когда ты выдираешь их из ЧУЖОЙ жизни, они прилипают к ТВОИМ рукам.
Лекарь, который лечит больных, берет их болезни себе; и он должен быть достаточно силен, чтобы суметь справиться с ними, иначе это может убить его… А лекарство… хоть колодезной водой можно вылечить. Человек сам себя лечит, а когда у него сил недостает — лекарь ему дает эти силы. От себя отнимает — и отдает. А себе забирает боль, страх — а иногда смерть. И он должен уметь сам избавляться от этого — раньше, чем это убьет его…
Старуха пристально взглянула на Марго, заворожено слушавшую ее, и добавила тихонько — и, как показалось Марго, неохотно:
— Я научу тебя…
— …Зачем ты научила меня это делать? Зачем? — спросила Марго — то ли у старухи, то ли у луны, рассеянно усмехающейся в черноте окна. Спросила голосом, совершенно не похожим на голос двенадцатилетней девочки. Тусклым и усталым. Луна мигнула, потеряв на мгновение безмятежность своей улыбки; старуха промолчала.
Ветер проскользнул в приоткрытую дверь, нежно погладил заплаканные щеки Марго, дернул старуху за седые спутанные волосы и прикрыл занавеской любопытное лунное лицо. Старуха поежилась, натягивая на плечи сползающий теплый платок.
— Ты спасла его от смерти, — тихо сказала она и осторожно и ласково положила свою костлявую руку на вздрагивающую ладошку Марго. И снова поежилась, как будто никак не могла согреться под своим пуховым платком в эту теплую летнюю ночь.
— Когда я шла… когда я шла к нему, они смотрели на меня… — Марго запнулась, захлебнувшись торопливым вдохом. Как будто глотнула стылой воды из черного колодца. Колодца с осклизлыми мокрыми стенами, с которых соскальзывают сведенные судорогой пальцы; а на дне плещет, и смеется, и нетерпеливо тянет жадные руки — защекотать, заласкать насмерть — черная вода…
И как будто опять Марго оказалась в душных сумерках деревенской избы, куда принесли умирающего Яноша — с головой, раскроенной неудачно выскользнувшим из рук напарника бревном. Приглушенно шумит, позвякивает, кудахчет и дышит задушенный тяжелыми занавесками летний вечер, прорываясь в щель между сдвинутыми дерюжками узким солнечным лучом; тяжело сопят и перетаптываются набившиеся в комнату люди; кто-то шикает на расхныкавшегося ребенка; тихонько поскуливает, монотонно покачиваясь, одной ладонью зажимая рот и задавливая крик, а другой — прижимая к юбке бессмысленно таращащегося младенца, молодая растрепанная женщина — уже почти вдова. И хрипло и рвано, слишком громко в набрякшей ожиданием тишине, надрывая последние силы в каждом следующем вдохе, дышит умирающий Янош. А под его головой, на подушке, ослепительно белой под черными спутанными волосами, все шире расплывается маслянисто-блестящее кровяное пятно.
Сначала никто не обратил внимания на Марго, и она какое-то время стояла и смотрела вместе со всеми. И с трудом сдерживалась, чтобы не закричать, и не зажать руками уши, и не броситься бежать — подальше отсюда. Она не понимала, как они все могут не слышать того, что слышит она. Как они могут не слышать, что этот человек, которого они уже все считают мертвым (вон, староста хмурится и думает о том, что вот теперь попа надо звать — отпевать, а значит, лошадь придется от работы отрывать, а время горячее; и вон тот старик с длинным носом сокрушается про себя — кто же теперь ему сделает крыльцо, которое Янош обещал; и вдова — та, которая уже сама себя вдовой считает, все кричит и кричит — мысленно: «Как же теперь? Как же теперь без тебя, а?..») — как они могут не слышать, что этот человек, неподвижно лежащий с заострившимся бледным лицом, — кричит и зовет на помощь?