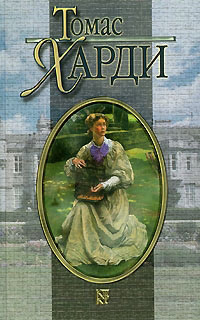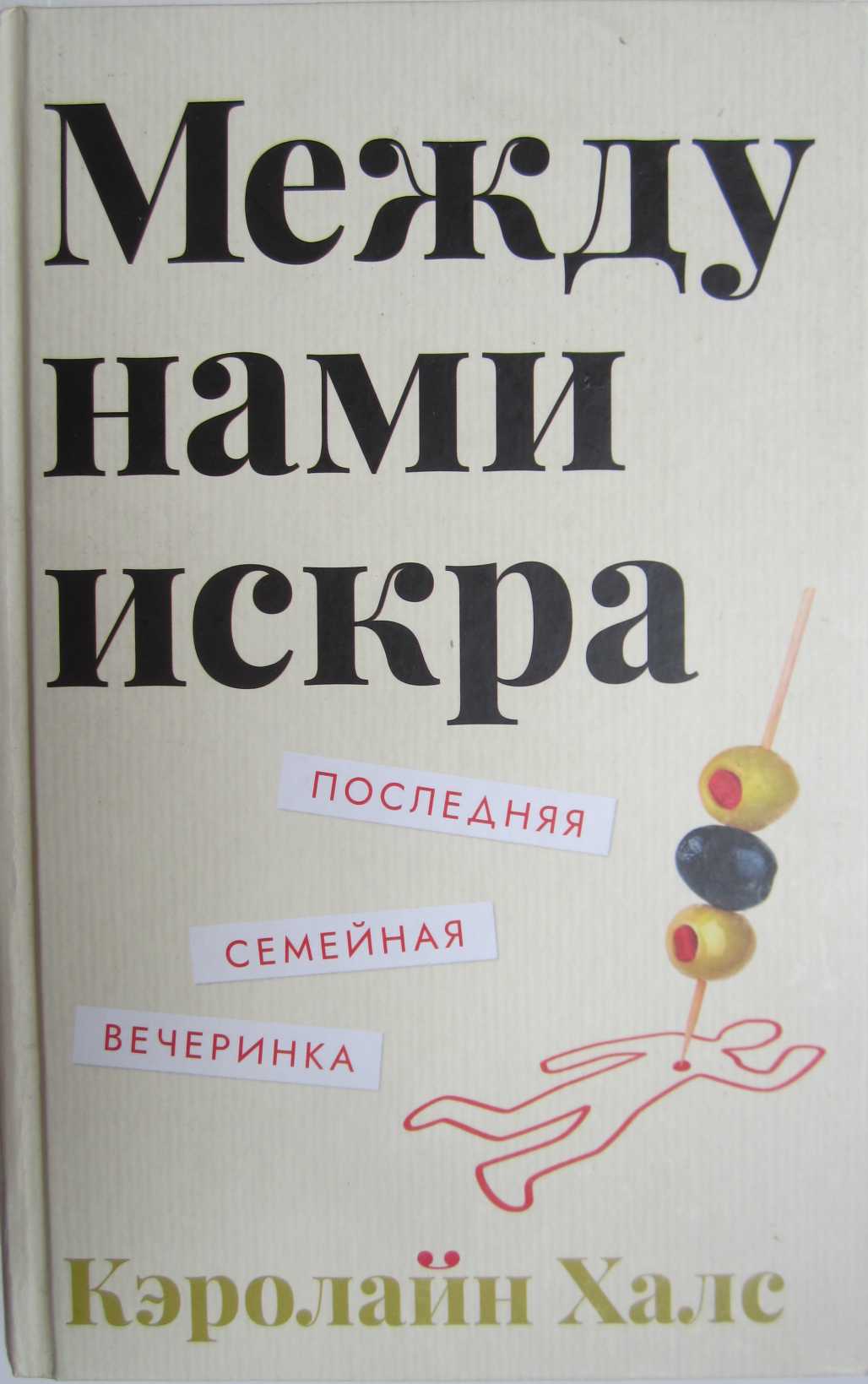ночь.
Но пока ночь еще не пришла, пока Оксана кружит где-то и жизнь идет, как должна идти, я оставляю рабочее место, перемещаясь на диван.
Диван на сутках – святое место. Или как там, диван на сутках больше, чем диван. Только прилягу, вот голову приложу к подлокотнику (подушек нет, подушки почему-то запрещены), и все. Одну минуту, максимум две-три, полежу, и все. Одну минуту.
Не знаю, в полудреме, наверное, я все думаю о Грише. Мне снятся черные шнурки, сцепленные морским узлом, с массивной кулачной вязью. Шнурки настолько черные, что заполняют пространство меж и вдоль, и вот уже совсем черно – к осмос проступает, и кажется, что вот-вот появится комета, которую мы ждали. Что-то поблескивает, должно быть, она самая, светится красным, и я хочу позвать Гришу.
– Гриша, – бормочу, – Гриша, иди скорее.
Не слышит, а я смотрю и смотрю, пытаясь разглядеть, чтобы запомнить хоть, чтобы рассказать потом. Не придумать, не соврать, а рассказать правду. Я знаю, комета сейчас исчезнет. И в самом деле почти уже накрыла ее тельце дымка ночного облака, и не стало кометы.
И ничего не стало.
Карман дрожит, мычит телефон.
И я мычу, пролетая сквозь звездную крошку. Бьет судорога света, и слово «мама» на экране двоится и троится, а после буквы расплываются по горизонту и превращаются в те же звезды.
– Да, мам, – говорю, – вы там как? Хорошо, что позвонила.
– Спустись к нам.
– Не понял, – говорю, – куда спустись?
– На улицу выйди, мы тут у тебя.
Я никак не пойму, куда мне нужно выйти, и хочу спросить еще раз, но мать больше ничего не говорит и отключается в тот самый момент, когда я почти сошел с орбиты и простился с мирской атмосферой.
Уже спустился на первый этаж, вернулся. Не убрал пистолет в сейф. Признал вину – исправился.
Мама с Гришей стоят возле крыльца.
– А чего тут мерзнете, зашли бы в отдел.
– Папа! – кричит Гриша, бежит обниматься.
– Привет-привет, – говорю, – ну ты как?
– Хорошо, – отвечает сын, – только со шнурками не получается.
– Не получается?
– Угу.
– Получится, мы их того, – смеюсь, – нагнем.
И Гриша тоже смеется.
Мать ждет, пока я наговорюсь, исполню отцовскую прелюдию. По лицу вижу, дела так себе. В саду, наверное, что-то не прокатило. Может, им денег предложить. Сейчас кругом одни деньги.
– Как прошло?
– Все хорошо, – говорит мама. Сама в глаза не смотрит, все наверх, по сторонам. Губы жмет без конца – первый признак, что-то случилось.
– Ты чего? – спрашиваю.
– Да тут… – бросит обмылок слова и молчит.
– Мам! Ну я все вижу, говори, а?
– Да отец, – не выдерживает, – отец… – вздыхает опять.
– Приехал, что ли?
Машет рукой – да какой там приехал.
И правда, разве может приехать, если не приезжал столько лет. Странное дело, не думаешь о человеке и, может, совсем перестал понимать, что был когда-то, а тут услышишь невнятное и когда-то привычное «отец» и поймешь, что человек всегда рядом.
– А чего же?
– Да умер, – шепчет, – отец умер.
Гриша возится с лужей, копошит палкой густую грязь и все ждет, пока бабушка или я скажут – нельзя. Но мать молчит, а я думаю, что делать.
– А ты как вообще…
– Да позвонили. Представляешь, взяли и позвонили. Такое дело. Я бы тоже позвонила.
– Ну да.
Поэтому нужно теперь как-то, я даже не знаю, что же тут и как…
– Поедешь? – спрашиваю и теперь сам не смотрю в глаза. Наблюдаю за жижей, та стекает с палки, и Гриша весь уже в грязи.
Мать кивает и, сдерживая подступающую к горлу волну, за которой должны появиться слезы, подтверждает: «Надо».
– Надо ехать, сынок. Все-таки родной, ну как иначе.
Она молчит, а я понимаю, о чем она так яростно молчит. И ярость эта на глазах преображается, и вот уже не ярость вовсе, а настоящая прежняя любовь, в которой прощение и смирение, а значит, победа и свобода. Ну да, бросил (сколько лет прошло, сколько мне тогда было). Ну да, не звонил, приезжал ли… да, вроде приезжал. Помню то первое сентября, когда появился. А больше ничего не помню.
Но мама-то помнит больше. Я даже не спрашиваю, отчего он умер. Не знаю, и знать не хочется.
– Когда?
– Завтра уже. Гришу взять не смогу. Не до этого.
– Да и не надо Гришу. Кто он для Гриши?
– Ну вот.
– Нет, никто. И звать никак.
– Не начинай. Я тебя прошу. Пожалуйста, – просит мать, и тут я, конечно, бессилен.
– Извини, я не должен.
Гриша бьет палкой по луже, брызги летят во все стороны. На вынужденном автомате я произношу многозначное «Гриша», без единого намека на воспитание – так, чтобы хоть слово прозвучало. И сын прекращает колотить грязь.
– Папа, я у тебя останусь? Да? – хлопает в ладоши, подбегая. Он все еще держит палку, норовит резануть ею воздух, в котором разглядел врага.
– Да, по ходу у меня… Ты это, палку брось.
Гриша кобенится, и даже «ну, папа» не спасает. Я повторяю, и Гриша сдается. Палка летит далеко-далеко, почти до самой проезжей части. Откуда столько сил у этого мальчика.
– Справишься с ним? Я понимаю, ты дежуришь. Но куда вот теперь.
Гриша, конечно, не входил в мои суточные планы. И можно было козырнуть чем-то вроде «это невозможно», «нам не разрешают» или «возьми Гришу с собой», но, посмотрев на мать, потерянную и пусть не убитую, но тронутую горем, я согласился. Что мне оставалось делать.
– Да, – говорю, – Гриша, сегодня я покажу тебе, где работаю.
– Ура-а-а-а-а-а! – кричит Гриша. И снова мчится к луже.
Мать со всем соглашается. И деньги, говорит, есть. И чувствует себя хорошо. Я все-таки сую немного, не надо, говорит, ты не обязан.
– Ему не обязан. А тебе – да.
– Перестань.
Иди, говорит мама. Стоишь тут в форме, красуешься со мной, глупой. Иди. Какой ты у меня красивый.
Матери нужен повод, чтобы разрыдаться. Если уж расплакаться – только от счастья и гордости. И вроде плачет уже. А я не могу эти слезы принять, потому что плачет из-за отца. Она всегда из-за него рыдала.
И вот уже развернулась и почти зашагала к остановке, как встала вдруг. Обернулась и смотрит. Смотрит и молчит. Я-то понимаю, должна спросить. Или я сам должен сказать, что не поеду. Ей спрашивать не хочется, мне – копошиться в пережитом.
Гриша по колено уже в грязи, благо – сапоги резиновые. И без них, что с ними.
– Мам, – говорю, – иди. Опоздаешь. Не ближний свет.
– Ага, – отвечает, – я поняла. Да,