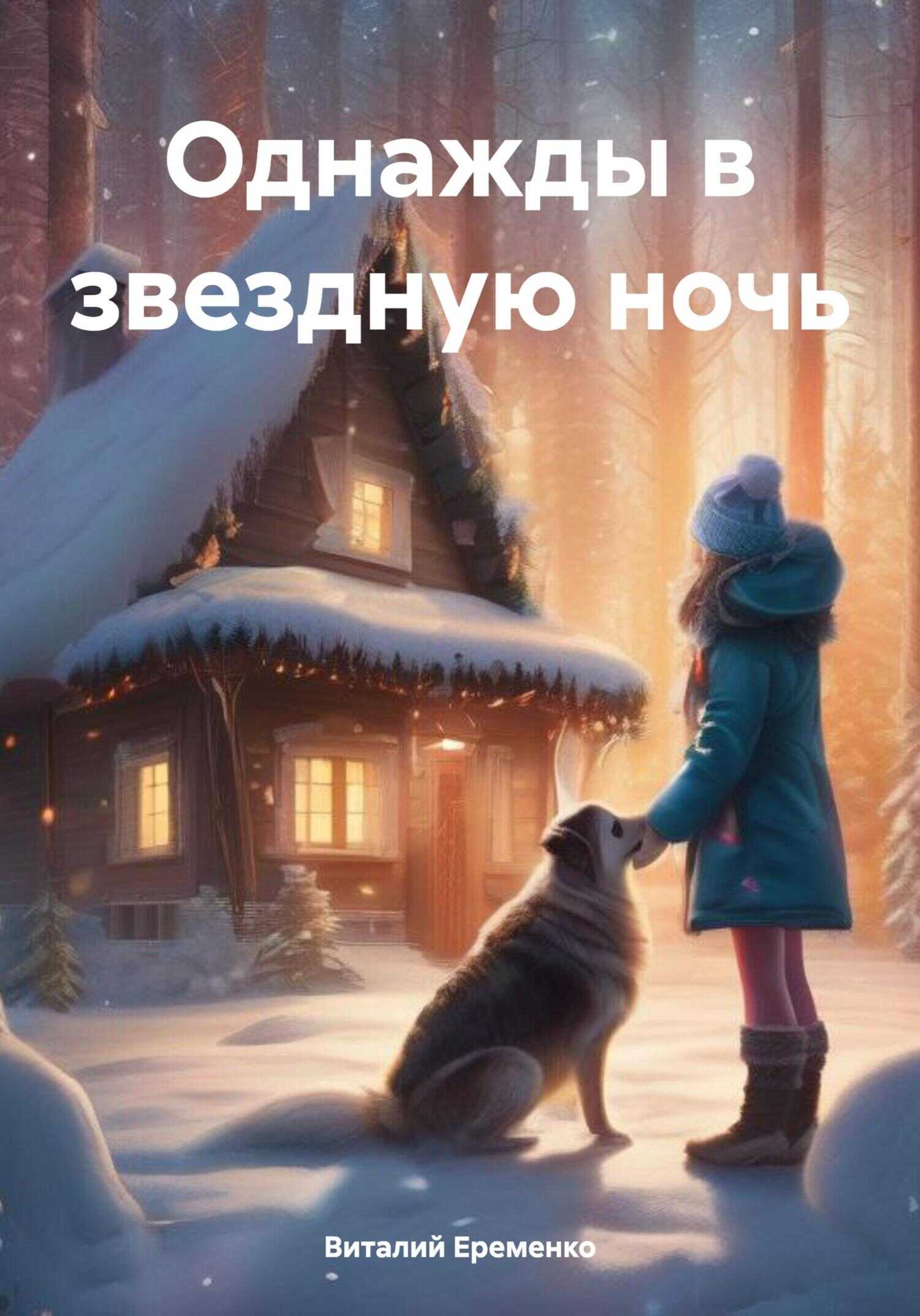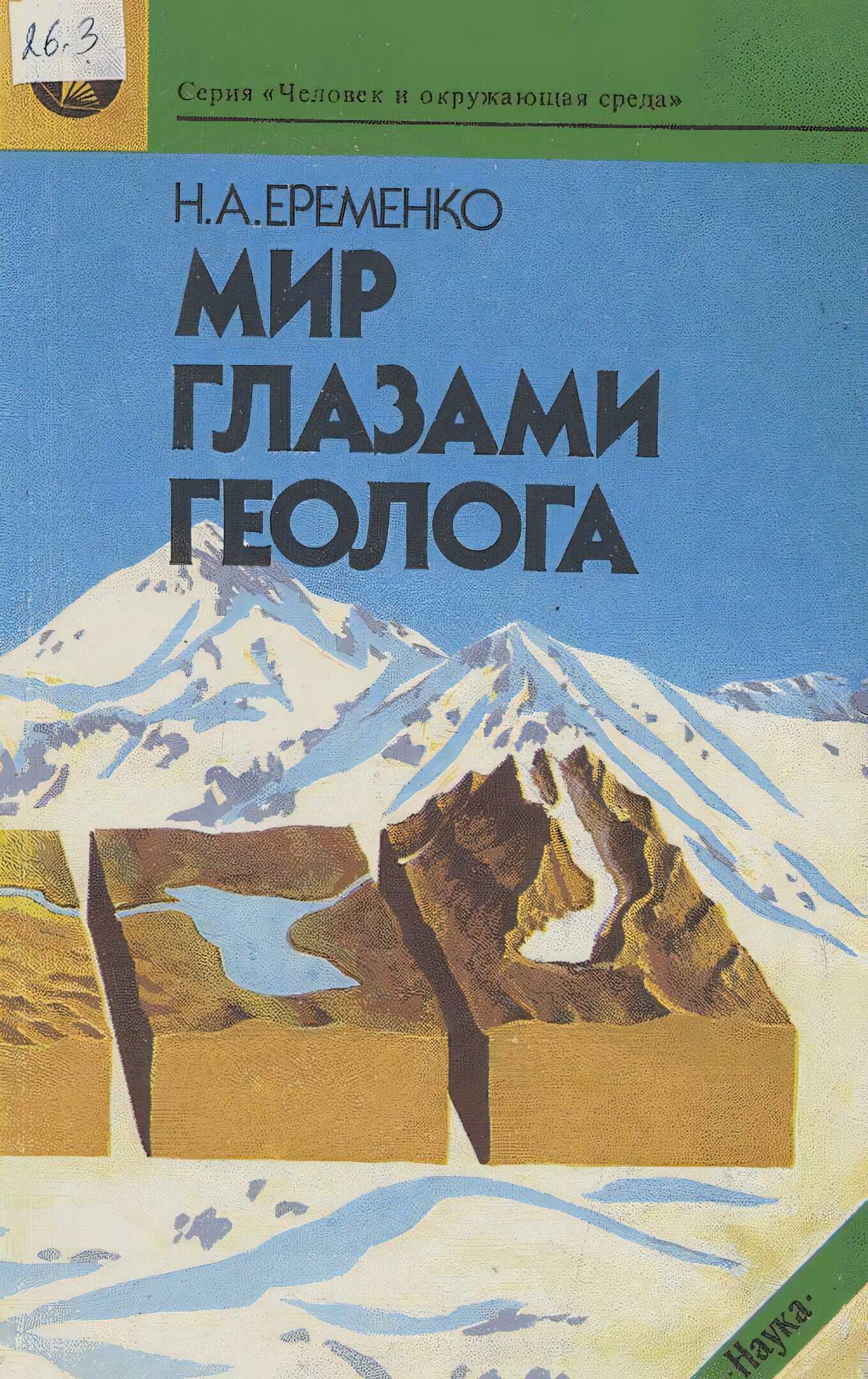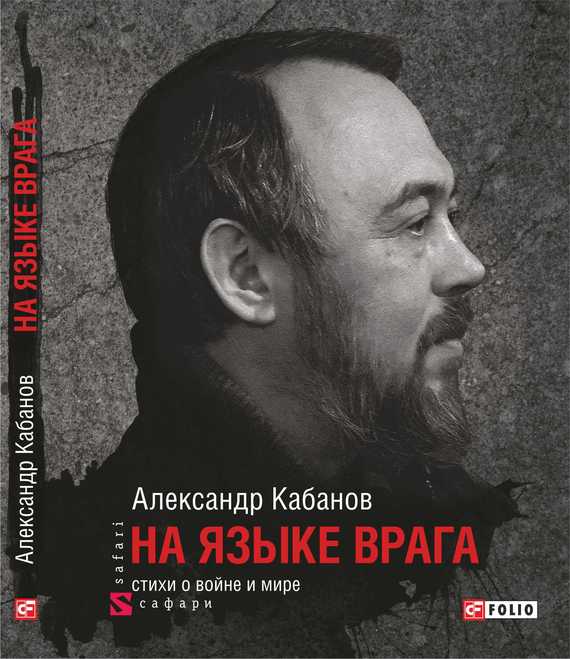class="v">как лазер самодельный,
сработана как бред,
последний ад ужа.
Так, выдохнув, язык
выносит бред пословиц
на отмель словарей,
откованных, как Рим.
В полуживой крови
гуляет электролиз,
невыносимый хлам,
которым говорим.
Какой-то идиот
придумал идиомы,
не вынеся тягот,
под скрежет якорей,
чтоб вы мне про Фому,
а я вам — про Ерему.
Читатель рифмы ждет…
Возьми ее, нахал.
«Шаг в сторону — побег».
Смотри на вещи прямо:
Бретон сюрреалист,
а Пушкин был масон.
И ежели далай,
то непременно — лама,
а если уж «Союз»,
то значит — «Аполлон».
И если Брет, то Гарт,
Мария, то Ремарк,
а кум, то королю,
а лыжная, то база,
коленчатый, то вал,
архипелаг… здесь шаг
чуть в сторону, пардон,
мой ум зашел за разум.
Переделкино
Гальванопластика лесов.
Размешан воздух на ионы.
И переделкинские склоны
смешны, как внутренность часов.
На даче спят. Гуляет горький
холодный ветер. Пять часов.
У переезда на пригорке
с усов слетела стая сов.
Поднялся вихорь, степь дрогнула.
Непринужденна и светла,
выходит осень из загула,
и сад встает из-за стола.
Она в полях и огородах
разруху чинит и разбой
и в облаках перед народом
идет-бредет сама собой.
Льет дождь. Цепных не слышно псов
на штаб-квартире патриарха,
где в центре англицкого парка
стоит Венера. Без трусов.
Рыбачка Соня как-то в мае,
причалив к берегу баркас,
сказала Косте: — Все вас знают,
а я так вижу в первый раз…
Льет дождь. На темный тес ворот,
на сад, раздерганный и нервный,
на потемневшую фанерку
и надпись «Все ушли на фронт».
На даче сырость и бардак,
и сладкий запах керосина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
допили водку и коньяк.
С крестов слетают кое-как
криволинейные вороны.
И днем, и ночью, как ученый,
по кругу ходит Пастернак.
Направо — белый лес, как бредень.
Налево — блок могильных плит.
И воет пес соседский, Федин,
и, бедный, на ветвях сидит.
И я там был, мед-пиво пил,
изображая смерть, не муку.
Но кто-то камень положил
в мою протянутую руку.
Играет ветер, бьется ставень,
а мачта гнется и скрипит.
А по ночам гуляет Сталин,
но вреден север для меня.
Репортаж из Гуниба
Гуниб — село и гора в Дагестане, последний оплот Шамиля, имама, предводителя горского освободительного движения, который после двадцатипятилетней войны, чтобы спасти народ от полного истребления, добровольно сдался здесь в плен фельдмаршалу князю Барятинскому. Петровск-Порт — современная Махачкала. Газават — священная война мусульман, айгешат — портвейн.
«Куда ведет тебя свободный ум».
И мой свободный ум из Порт-Петровска,
хотя я по природе тугодум,
привел меня к беседке шамилевской.
Вот камень. Здесь Барятинский сидел.
Нормальный камень, выкрашенный мелом.
История желает здесь пробела?
Так надо красным, красным был пробел.
Он что ли сам тогда его белил?
История и это умолчала.
Барятинский? Не помню, я не пил
с Барятинским. Не пью я с кем попало.
Доска над камнем, надпись, все путем.
Князь здесь сидел. Фельдмаршал.
Это ново. Но почему-то в надписи о том,
кто где стоял, не сказано ни слова.
Да, камень где Барятинский сидел…
Любил он сидя принимать (такое прощается)
плененных — масса дел.
Плененные, как самое простое,
сдаваться в плен предпочитали стоя,
наверно, чтоб не пачкаться о мел.
Один грузин (фамилию соврем,
поскольку он немножко знаменитый)
хотел сюда приехать с динамитом.
Вот было б весело, вот это был бы гром!
Конечно, если б парни всей земли
с хорошеньким фургоном автоматов,
да с газаватом, ой, да с айгешатом,
то русские сюда бы не прошли.
К чему я щас все это говорю?
К тому, что я претензии имею.
Нет, не к Толстому, этим не болею,
берите выше — к русскому царю.
Толстой, он что? Простой артиллерист:
прицел, наводка, бац — и попаданье:
Шамиль тиран, кошмарное созданье,
шпион английский и авантюрист.
А царь — он был рассеян и жесток.
И так же, как рассеянный жестоко
вместо перчатки на руку носок
натягивает, морщась, так жестоко
он на Россию и тянул Восток.
Его, наверно, раздражали пятна
на карте или нравился Дербент.
Это, конечно, маловероятно,
хотя по-человечески понятно:
оно приятно, все-таки Дербент!
— В Париже скучно, едемте в Дербент…
Или: — Как это дико, непонятно —
назначен
губернатором
в Дербент!
«На холмах Грузии лежит такая тьма…»
И. М.
На холмах Грузии лежит такая тьма,
что я боюсь, что я умру в Багеби.
Наверно, Богу мыслилась на небе
земля как пересыльная тюрьма.
Какая-то такая полумгла,
что чувствуется резкий запах стойла.
И кажется, уже разносят пойло,
но здесь вода от века не текла.
— Есть всюду жизнь, и здесь была своя.
Сказал поэт и укатил в Европу.
Сподобиться такому автостопу
уже не в состоянье даже я.