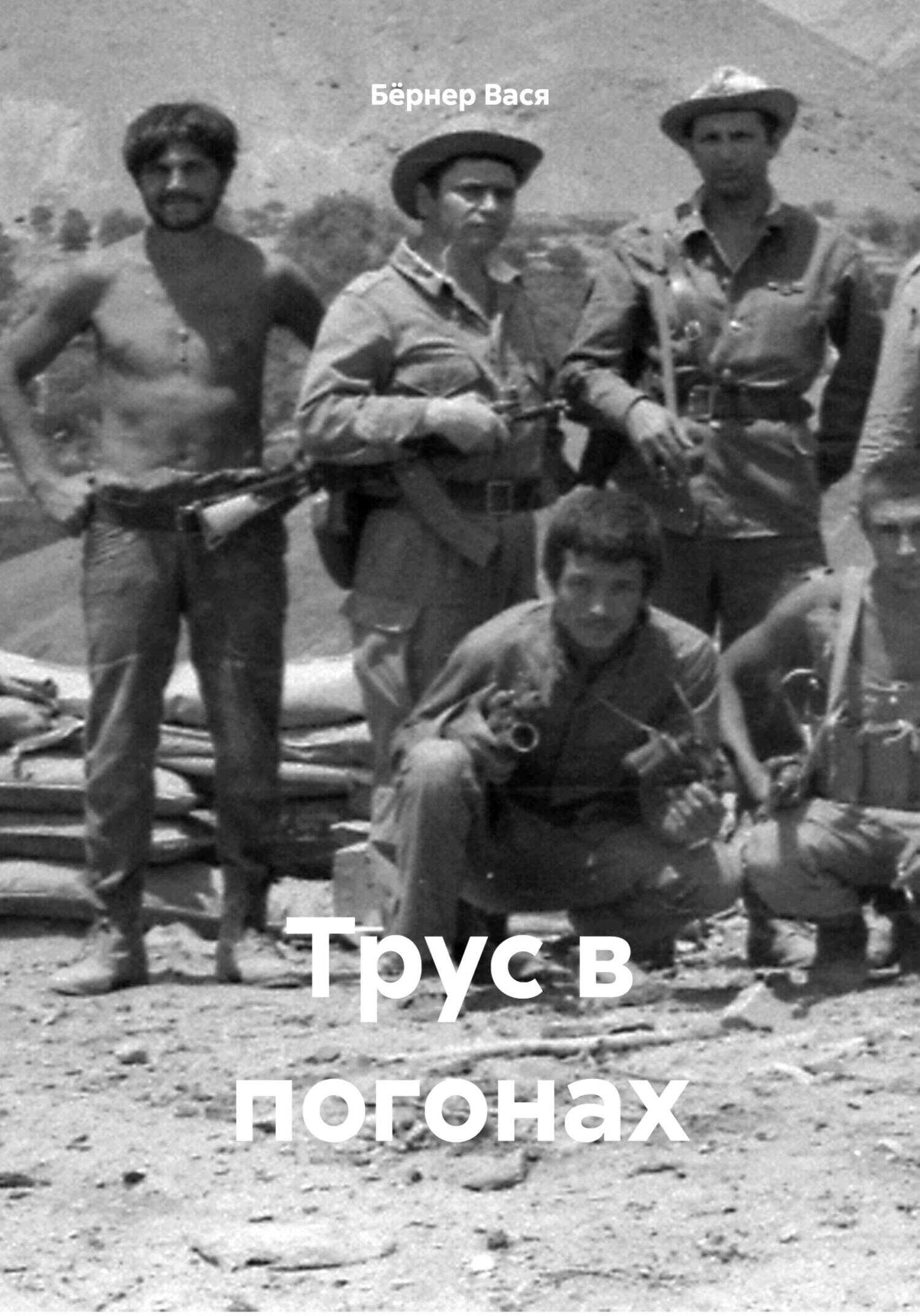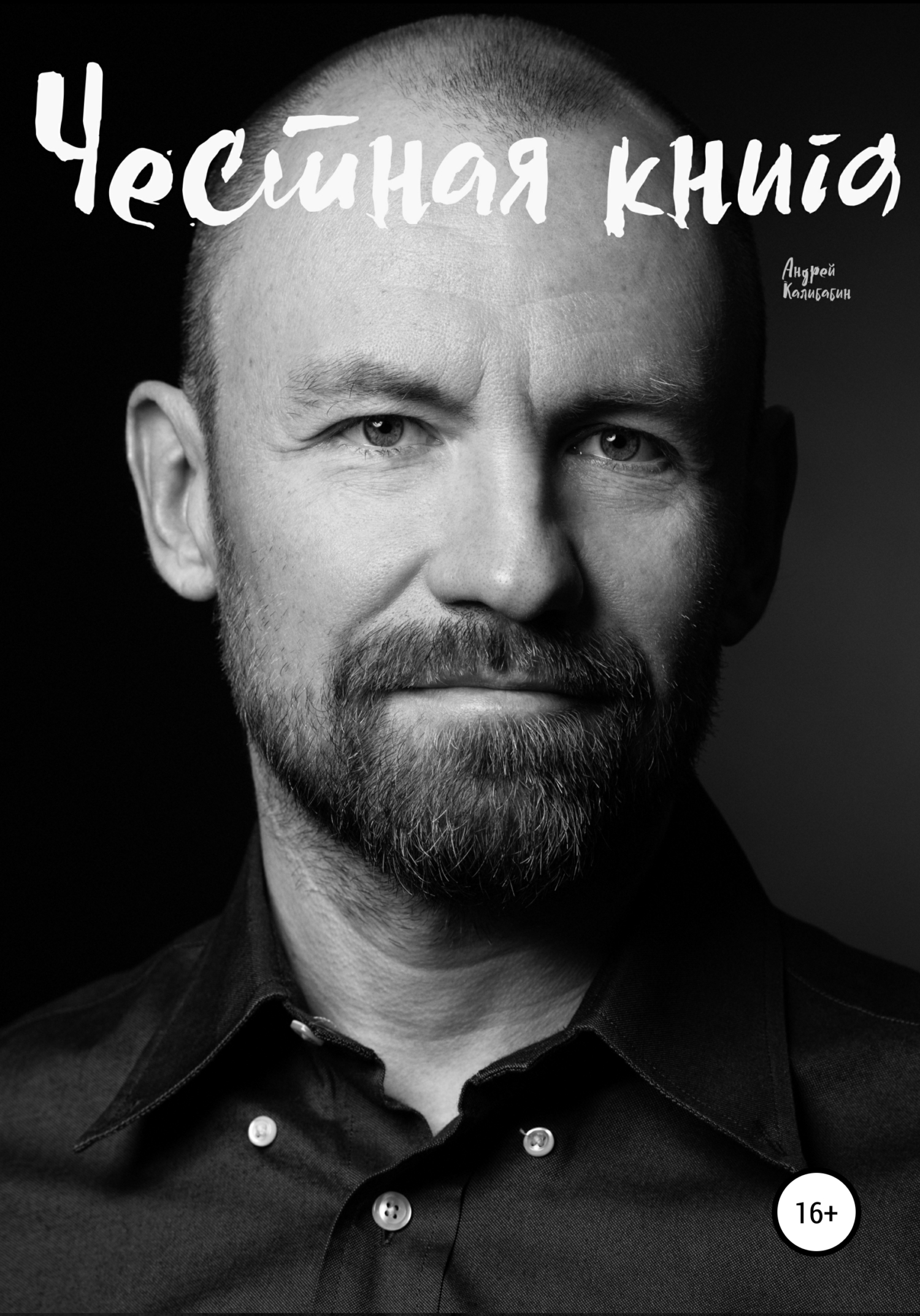возле машины, прощаясь.
«Ишь, молодцы, — думал Семенов, глядя на вертолетчиков. — Обязательно угощу их семгой!»
Он видел свою еще не пойманную семгу, розовомясую, с оловянно поблескивавшей чешуей: драгоценный груз, который он всегда привозил с собой из этих поездок. И отец его привозил когда-то давно, в тридцатых годах, и собирались у них в доме старые большевики, объедались семужьим малосолом, спорили о мировой Революции… никого уж в живых нет. А своей теперешней семгой — которая в этот момент стоит где-нибудь в ледяной воде под камнем — накормит он жену и детей, и кое-кого из друзей-художников, и этих вот, небесных работяг. «Неплохо бы штуки две поймать, — подумал он. — Сейчас не те времена, что в моем детстве, — тогда отец привозил штук по десять, завернутых в мешковину и рядком вложенных в дощатые ящики в рост человека! Удивительно вспомнить! Старые большевики знали дело! Да и семги было завались! Ну, а мне и двух хватит… главное — это этюды», — он мельком оглянулся вокруг.
— Ну, прощайте, — протянул летчикам руки Семенов. — Спасибо вам!
— Не за что, — искренне ответил командир. — Ни пуха вам, ни пера! — добавил он, как полагается.
— К черту! — сказал Семенов.
Командир деловито кивнул и скрылся в машине, за ним взошел бортмеханик, а радист, поднявшись последним, убрал внутрь лесенку и, широко улыбнувшись, захлопнул дверцу…
Семенов отошел на несколько шагов.
Быстро затараторил, прощаясь с ним, двигатель. Выпрямляясь, стали раскручиваться лопасти винта над вертолетом. Вот они уже слились в один сплошной вихрь — невидимые в нем — от вихревого ветра поседела трава вокруг — мятущийся воздух распахнул на Семенове куртку — вертолет чуть опустил нос — приподнялся — и вот он уже висел над поляной — уносясь боком в блестящее небо… Он выходил на свою невидимую небесную тропку.
Семенов провожал его глазами, прикрыв их от слепящего солнца ладонью, — смотрел щурясь в небо, пока темная неуклюжая точка не растаяла над холмами, противоположного берега…
10
«Наконец-то я совсем один», — подумал Семенов. Его обняла долгожданная тишина, подчеркиваемая непрестанным ревом реки.
Он с наслаждением оглянулся: волшебное место! Так отрешенно было вокруг, что не верилось — были ли только что вертолетчики с их машиной?
Когда он летел сюда растянувшейся над земными меридианами заоблачной ночью — почтовый рейс Москва — Киров — Сыктывкар — Печора, № 2267, — он задремал, и ему приснился сон: он — маленький — на руках у матери — они идут под Москвой на даче сквозь сосны — и навстречу солнце… Где бы он потом ни был за свои полвека, этот, сон периодически возвращался к нему, как далекое детство — воспоминание о том, как он приходил в этот мир. А теперь пришли его дети: мальчик восьми лет и девочка двенадцати. Когда-нибудь они тоже будут видеть свои сны о детстве. Надо получше украсить им дни, чтоб было потом что вспоминать. Он с удовлетворением вспомнил, как они ходили недавно всей семьей на этюды — в Новодевичий монастырь. И сын, и дочь написали там очень смешные трогательные этюды акварелью, и он тоже написал свой. Его этюд был академическим, по-дюреровски завершенным, а в этюдах детей была наивная детская прелесть. Но техника уже в них была — водяной живописи — его заслуга. С каким наслаждением они писали! На другой день он купил им в награду велосипед «Орленок» — давно, кстати, обещанный.
Вчера жена и дети провожали его на московском аэродроме «Быково»: страдали, что остаются. Непременно надо взять их с собой на Север, пусть хариуса половят. Жаль, что маленькие еще, женился он поздно. Сейчас — жить и жить! Лет до восьмидесяти дотянуть надо.
— Спасибо тебе, судьба! — сказал он вдруг громко, вскочив на камень и театрально поклонившись воображаемой судьбе. — Благодарю тебя за все прошедшее!
Он еще раз поклонился — ему нравилось это кривлянье. Смешно было смотреть на кланяющегося в тайге одинокого человека. Но кто мог смотреть сейчас на него в этой глуши? Медведь? Сколько смешного теряем мы оттого, что не можем иногда неожиданно посмотреть на себя со стороны! Но Семенов об этом не думал, в своем счастливом забытьи. Он всегда был кривлякой. Настоящий художник и должен им быть. «Какой артист погибает во мне неоткрытым!» — говорил он часто, кривляясь, друзьям — особенно в грустные, в печальные мгновения. В такие минуты он особенно любил паясничать, и это многих коробило.
Но сейчас-то нет ничего грустного — все прекрасно!
— И за все грядущее благодарю тебя тоже! — крикнул он, в третий раз поклонившись, артистично отставив в правой руке воображаемую шляпу, расшаркиваясь на каменной груди…
Семенов вдруг почувствовал кощунство последнего поклона — скромно слез с камня и, посерьезнев, шагнул к палатке.
11
Палатка встала возле впадающего в Вангыр ручья, который в меру своих сил подпевал реке. Он тек с ледника ближней горы, был чистым и холодным, с очень вкусной водой. Возле впадения в Вангыр его журчание и клекот тонули в речном голосе, но отойдешь по нему вверх — ручей опять пел соло и хорошо слышен был в траве под деревьями. Возле палатки — куда вернулся Семенов — голос ручья опять пропадал за шумом реки…
Если стоять к палатке спиной, а лицом к реке, то справа сразу же начиналась тайга — темными елями и лиственницами, — убегая без просвета вверх по течению реки.
Слева же — за ручьем — высились пять берез. Две стояли полу-в-воде, уже немолодые, рослые, а три повыше на берегу, и были они помоложе и пониже ростом. Все вместе образовывали они одну оживленную, вечно лопотавшую листочками семью. Некоторые листики на них уже пожелтели: под порывами ветра они срывались с ветвей и падали в воду, уносимые течением. Под березами разрослись кусты краснотала и высокая сочная трава — густо-зеленая, — и в ней яркими пятнами лиловые цветы татарника, желтые клубни болотных кувшинок и розовые высокие свечи иван-чая. Еще рос тут же лиловатый львиный зев.
За семьей берез еще продолжалась поляна, а потом опять начиналась тайга, но не прямо от воды, а отступя немного за нешироким береговым обрывом, спускавшимся к реке поросшими мохом камнями. По верхнему краю обрыва опять выстроились широким полукругом березы с кудрявыми светлыми кронами, стволы их белели, как живой частокол, отгораживавший от реки темную таежную глухомань.
Далее вниз — в конце этого длинного полукруглого частокола — торчали над берегом высокие серые скалы, и река, оттолкнувшись от них, заворачивала вправо — ревела там, спотыкаясь об огромный, отколовшийся от скал камень посередине течения. Поворот этот хорошо виден был из палатки. Семенов знал, что там семужное место.
Противоположный берег начинался напротив впадения ручья круглыми разноцветными валунами, затем полого переходил галечной россыпью в кустарники, затем в лес по верблюжьим спинам