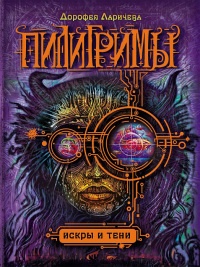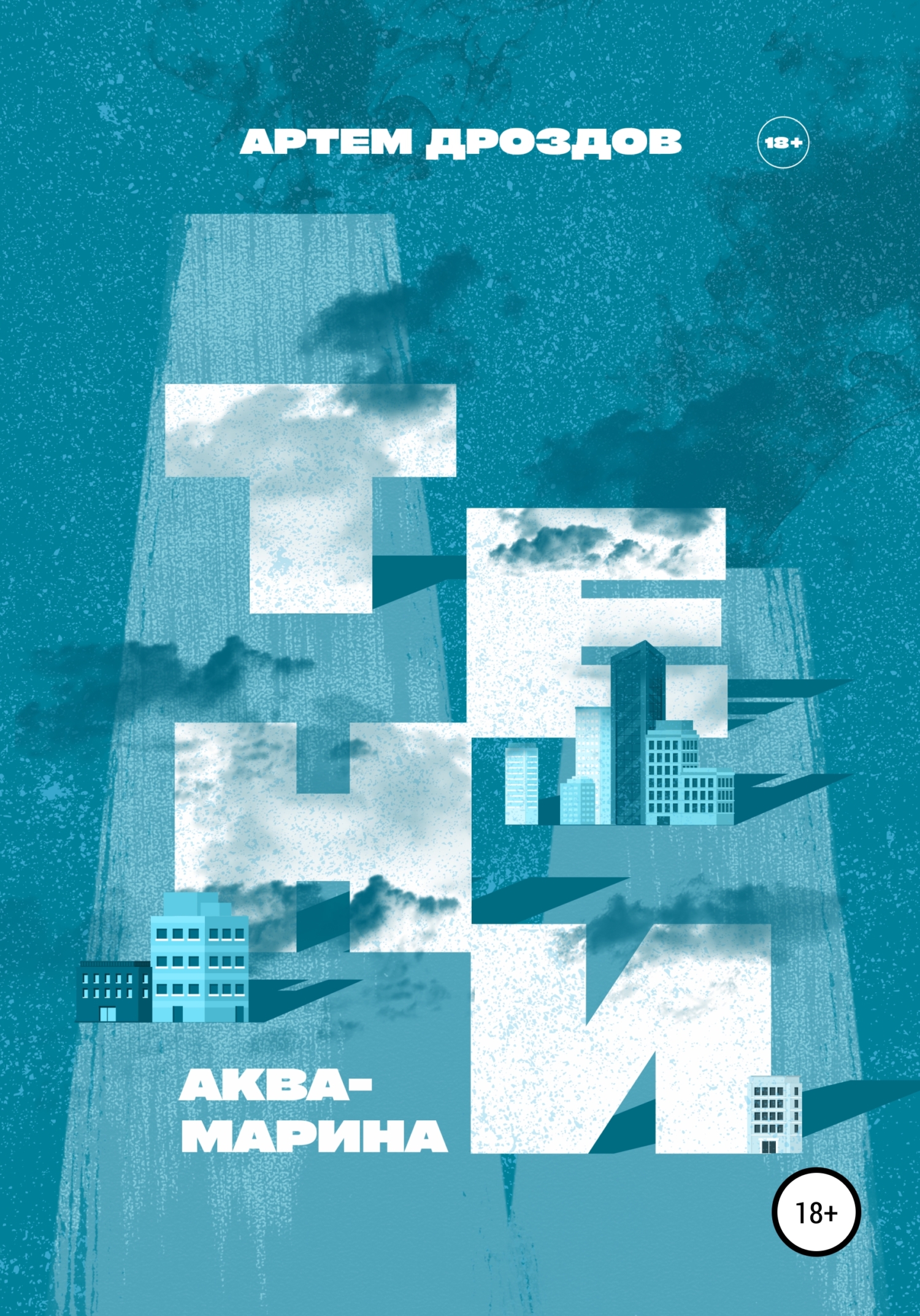за мною, прислонившись к стене. Взгляд его, тяжелый и цепкий, как у любого представителя силовых ведомств, словно говорил «только попробуй что-нибудь сотворить, гаденыш».
Я поневоле вжался в угол, пытаясь спрятаться. Вот только трудно отыскать укромный уголок за прозрачной дверцей кабинке. Охранник ухмыльнулся, довольный произведенным эффектом.
Из прислоненного к груди динамика послышался сухой треск. Запоздало вспомнив о собеседнике, я поднял трубку, но услышал лишь короткие гудки - соединение прервано. Оно и не удивительно, сначала беспокоят посреди ночи странными сообщениями, потом молчат.
Стараясь сохранять спокойствие, я вышел из кабинки. Засунул руки в карманы и с самым независимым видом прошествовал мимо охранника. На пухлом лице последнего играла довольная ухмылка. Щерься-щерься, жандармская морда. Барышня-телефонистка один раз на место поставила, а будет нужно и другой раз укажет. Она здесь главная - не ты.
Толкнув плечом дверь, я вышел в промозглую ночь. Тут же накинул капюшон, и спрятал пальцы в безразмерных карманах куртки. Можно было возвращаться в дом Лукича, но что-то внутри не отпускало, держало на привязи, словно ошейник дворового пса.
Почему незнакомец попросил позвонить в кафе? Чем они ему помогут – привезут пирожные с горячим кофе? Не проще ли было набрать номер больницы или жандармерии? И что за странное имя – Ортега? Больше походило на позывной, как у социалистов - те вечно играли в конспирацию, используя иностранные фамилии, или того хуже бомбистов, готовых подорвать любого ради воплощения в жизнь собственных идеалов.
Нужно было бежать прочь - сверкая пятками, но вместо этого я вернулся. Занял позицию в проулке напротив бара и принялся ждать.
Где-то там на заднем дворе умирал человек, а может статься, уже умер. Доводилось слышать о том, что колотые раны в живот самые мучительные. От них долго умирают, испытывая невыносимые страдания. Куда более сильные, чем обычные колики в животе. Поди страшно ему, лежать одному в холодной ночи и надеяться на скорую помощь. Раз за разом перебирать в голове мысли, гадая: поможет неизвестный пацан – позвонит по указанному номеру или сбежит.
А я вот он, никуда не сбежал. Отплясывал чечетку из-за подступившего холода. Прятал онемевшие пальцы в карман и думал всяком разном: о спасении души, о грехах человеческих. Бабушка Лизавета учила, что помочь угодившему в беду первое дело. И если я хочу попасть на небеса, то должен поступать сообразно христианским заповедям. На словах то красиво звучало – заслушаешься, в особенности, на полный желудок. А что делать, если других вариантов не осталось и воровство - единственный шанс не помереть с голоду? Неужели нельзя было придумать сноску к восьмой заповеди: не укради, но ежели остался сиротой, то немного можно. Совсем чуть-чуть, маленечко, не больше двух раз в день. Но нет же, сказано – не кради и всё тут. Из-за подобной категоричности чаша грехов моих переполнилась, и потребуется приложить немало усилий, чтобы уравновесить весы. Хотелось надеяться, что ангелы сейчас наблюдают за мной, строго фиксируя все произошедшее в отдельную папочку добрых дел. Иначе вариться Лешке Чижову в адском котле до скончания века.
Сколько раз доводилось видеть картинки судного дня: яркие языки пламени, облизывающие тела скрючившихся грешников. Тогда это казалось страшным, а сейчас только и думалось о том, как бы согреться.
Я подпрыгивал на месте, ходил туда-сюда, поджимая замерзшие пальцы в ботинках. И до того увлекся, что едва не пропустил важного момента, ради которого, собственно, и остался. Сначала послышался шум рокочущих моторов. Он нарастал с каждой секундой, до тех самых пор, пока полосы яркого света не выхватили из темноты заваленный мусором закоулок. У входа в бар остановилось три Студебекера. Захлопали дверцы, выпуская наружу людей. Двое бросились к крыльцу и принялись тарабанить в дверь. Двое других нырнули в щель меж домами, ведущую во внутренний дворик. Еще один побежал вверх по улице - в сторону, где располагался телеграф. И вот это мне не понравилось. Еще не хватало, чтобы они до Лешки-Чижика добрались. Объясняй потом, кто кого и за что прирезал.
Я осторожно отступил назад. Завернул за угол ближайшего дома и понесся во всю прыть. До того лихо, что встречный ветер скинул с головы капюшон. Пересек небольшой дворик, заросший бельевыми веревками, что паутиной. Выскочил на соседнюю улицу и снова во двор. Натолкнулся на пьяного мужика, пытающегося сообразить, куда же он прудит: на стенку, на ботинки или же в собственные штаны. Нырнул под арку и уже оттуда напрямки до дома бобыля.
Всё бежал, а в голове колотилась мысль. Если важного господина спасут, сколько грехов спишется небесной канцелярией? Достаточно будет этого количества, чтобы попасть в рай? В то самое место, где ждали дед Пахом и бабушка Лизавета… В место, где была мама.
Глава 3. На память от персидской принцессы.
Лука Лукич выслушал мой доклад в привычной манере, ни разу не перебив. Единожды вставал подлить кипятку в кружку и развести чаю – обычного, без сахара или варенья вприкуску. Первые дни я думал, что бобыль без пищи обходится. А что, живут же старцы в Оптиной пустыни? Бабушка Лизавета рассказывала, что тамошние монахи только на молитве да святой воде держатся. Тела иссохшиеся, а в глазах благодатный огонь горит - вона какая сила в людских сердцах сокрыта. Неужели и Лукич был из числа подвижников, что подвизаются аскезе, терзая оболочку телесную, дабы избежать греховных страстей?
Я мусорное ведро специально проверял – не было в ней остатков еды окромя той, что сам приготовил. Уважение к молчаливому бобылю возросло да заоблачных небес. И только спустя неделю я узнал истинное положение дел – Лукич не любил готовить. Все эти плошки и поварешки были не для него. Имелась при автомастерской столовая, там его и подкармливали. То же мне, выискался - подвижник… С высеченными из камня лицом и повадками матерого уголовника.
Спрашивал Лукич