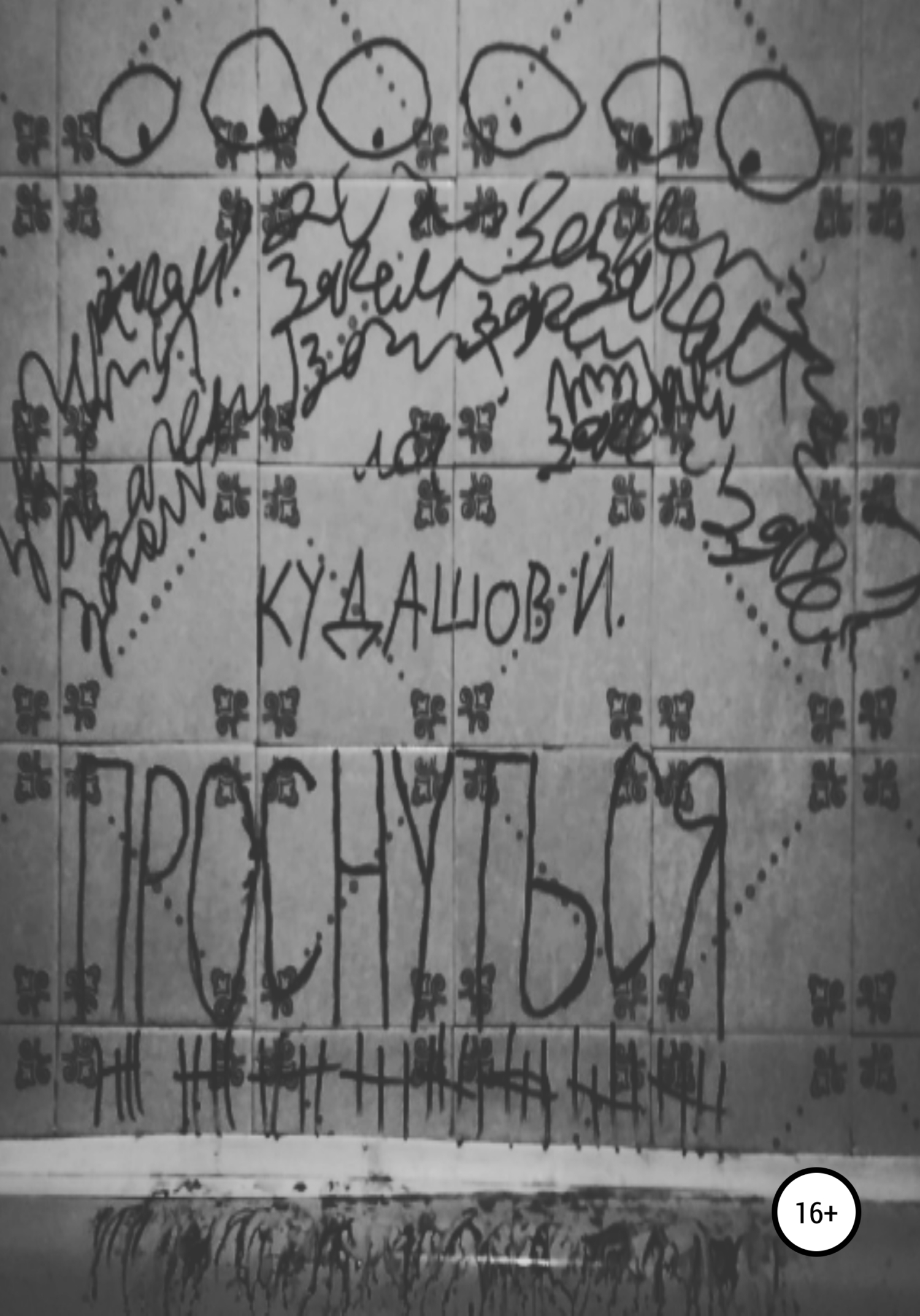Адрес, телефон и все остальное теперь можно не предоставлять». Я вроде бы должна была обрадоваться, но только промямлила «спасибо». Снова противоречивые чувства. Почему простой визит в тюрьму вызывает у меня такую тревогу?
В четверг после обеда я собрала труппу и рассказала, как движется дело. Но перед этим позвонила Мерседес и позвала ее поговорить в кафе. «Вселенная к нам благосклонна, — сказала я, как только она села напротив меня, — и у нас получится выступить в тюрьме». Ее лицо просветлело. «Ты не представляешь, как я рада, что ты наконец решилась», — сказала она с улыбкой. Подошел официант. Мерседес заказала капучино без кофеина, а я мятный чай с медом.
«Мерседес, мне нужно кое-что тебе сказать», — произнесла я, наблюдая, как она бросает в кофе сахарозаменитель. Она улыбнулась: «Конечно». Я помешала чай, чтобы мед лучше растворился. «Я не хочу, чтобы ты участвовала в этой постановке». Мерседес удивленно воззрилась на меня. «Тобой движут мотивы, отличные от мотивов труппы», — осторожно сказала я. Мерседес изменилась в лице. «Почему я туда иду — мое дело!» — почти прокричала она. Люди за столиками начали оборачиваться на ее голос. Я старалась сохранять спокойствие. «Мерседес, ты хочешь отомстить своему насильнику, а мы не можем зациклиться на этом». Она едва сдерживала возмущение. «Я умею работать в команде», — сказала она, повысив голос. «Я это знаю. Но мы не можем все время думать, что ты отчебучишь на сцене, чтобы привлечь внимание этого типа». Она пристально посмотрела на меня и сварливо спросила: «Это же я тебя убедила поехать. Так в чем дело?» — «Я решила, что ты не едешь, и решения своего не изменю». Она совсем смешалась. «Это подлость с твоей стороны», — сказала она. «Нет, это ты задумала подлость», — возразила я. И попросила счет. С плохо скрываемым бешенством она сказала: «Предупреждаю: если меня не возьмут в тюрьму, я уйду из труппы». К такому шантажу я была готова. «Нет, Мерседес. Не уйдешь. Иди домой, подумай над тем, что я тебе сказала, и увидимся на следующей неделе». Официант принес счет, я положила на стол двести песо и, не дожидаясь сдачи, встала. «Пока, Мерседес».
В «Танцедеи» я пришла в расстроенных чувствах. Не знаю, как мне хватило смелости пойти наперекор Мерседес. В глубине души она понимает, что я права. С ее стороны безответственно отправиться в тюрьму, только чтобы бросить вызов насильнику, и использовать нас в своих целях. Как руководитель труппы, я не могла этого допустить. Я понимала ее ярость, но это была ее ярость, а не наша. Нечего марать нас своей болью.
Я рассказала танцорам, что большую часть требований упразднили. Некоторые все равно остались недовольны. Справка о несудимости — самый муторный документ из списка.
«Я приняла решение: я туда иду. Если кто-то хочет присоединиться, милости прошу». Я предупредила, что никто и ничто не гарантирует нам безопасности. «Риск вполне реален, но меня, например, это не остановит. Страху не место в моей жизни». Ехать или не ехать — личное дело каждого, хотя мне, конечно, будет жаль, если кто-то откажется от столь ценного коллективного опыта. Что касается справок, я могу нанять нам всем юриста, чтобы дело шло быстрее.
Один за другим мои ребята говорили «да». Некоторые сомневались дольше остальных, но ни один человек не отказался. По дороге домой я позвонила Педро: «Назначай день для выступления».
Через пару часов после убийства я позвонил твоим родителям, точнее, позвонил на общественный телефон в ближайшей к их участку деревне. Пока парень, дежуривший у телефонной будки, ездил к ним на велосипеде, а они добирались в деревню, чтобы перезвонить, прошло семь часов. Позвонил дед. О твоей смерти сказал ему я. На науатль соврал, что ты умер от еще одного инсульта. Как расскажешь, что его внук сжег его сына? Дед только попросил не хоронить тебя, пока они не приедут. Между твоим родным домом и Мехико меньше четырехсот километров, а добирались они тридцать часов. Ничто так ясно не говорит, каким жалким было твое детство, как эти тридцать часов. Десять — чтобы дойти пешком до деревни, откуда бывала попутка до другой деревни, откуда ходил автобус до третьей деревни, где был автобус до четвертой, и так до самой столицы.
Они приехали прямо на бдение. Желая попрощаться с тобой, бабушка совершила ошибку и приподняла крышку гроба. И увидела бесформенный ком, на котором с трудом угадывались зубы. Моя молчаливая и тихая, как все индианки с гор, бабушка только и смогла, что обернуться и спросить у меня: «Что это такое?» У меня не хватило духу сказать ей: «Это все, что осталось от твоего сына».
На следующий день после похорон таблоиды написали про убийство, и везде на первом плане красовалась крупная фотография Хосе Куаутемока, которого выводили в наручниках из дома. Видимо, какой-то полицейский слил фото, несмотря на строгий запрет со стороны начальников, твоих, кстати, знакомых. Скоро в кругу твоих друзей расползлись слухи не только об ужасной истинной причине твоей смерти, но и о том, как ты над нами измывался. На допросах Хосе Куаутемок подробно рассказал следователям, почему решил тебя поджечь.
Но невзирая на то, что твоя жестокость и твои унижения выплыли наружу, репутация твоя не пострадала. Общественное мнение оказалось непробиваемо. Хочу сказать, что ты можешь быть спокоен: тобой по-прежнему восхищались и признавали твои заслуги. Твой портрет кисти известного художника украсил актовый зал Мексиканского географического и исторического общества. Более того, ученый совет постановил присвоить имя Сеферино Уистлика зданию общества, и еще в твою честь назвали пару школ. Не переживай, твой образ интеллектуала — правдоруба жив и процветает.
Мама вопреки твоей воле заказала девять заупокойных месс Испанская католичка, забитая твоим индейским гневом, ожила в ней. Когда я спросил, почему она так поступила, она разразилась дешевой ламентацией на тему спасения душ и прочими банальностями, которых ты терпеть не мог. Она такая красавица. Как тебе удалось ее заполучить? Ты, скромный выпускник педагогического училища, завоевал не только ее, но и моего деда-расиста. И обзавелся женой — предметом мебели, женой-трофеем, женой-невидимкой. Да, невидимкой. Тенью на стене. Ты пробуждал во мне жгучую ненависть, но к маме я испытывал куда более постыдное чувство: презрение. Я ни разу не слышал, чтобы она высказала самостоятельную мысль, чтобы хоть как-то противилась твоим издевательствам, вообще против