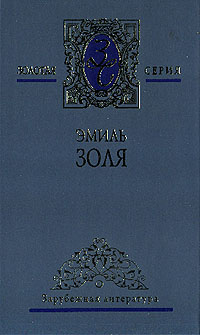их голосам или чувствует себя одним из них? А как он перезимовывает, когда там, наверху, только снег, снег и снег?
Горцы издавна привыкли перемещаться, кочевать с пастбища на пастбище всю жизнь, подниматься и спускаться вслед за скотиной, в зависимости от времени года, работ. Вот и сегодня животные перевозятся в длинных фургонах по удобным дорогам, ведущим к самым дальним стойбищам. Но он, этот одинокий старик, кажется, вел не такой образ жизни. Я представлял его полным решимости не покидать то место, которое он выбрал для себя, какое бы несчастье ни случилось. Верным той единственной идее, которую сформулировал когда-то много лет назад: умереть здесь, в одиночестве, и к черту всех остальных.
Не знаю: возможно, я совершенно неправ, но в его взгляде за те несколько секунд я не заметил никакой абстрактной мысли. По-моему, он не размышлял о душе, о бессмертии, о том, что будет потом. Разве что постоянно задавался вопросом, что произошло в недавнем прошлом и будет вскорости, об этой зыбкой и нечеткой границе между одним и другим, по которой мы скользим, как тающий грязный снег. Всю свою жизнь он видел животных, которые умирали, растения, которые умирали, скалы, которые осыпались и крошились, и осознал, что с человеком будет так же: он свалится от усталости, увянет внезапно, и если в постели — останется там, если нет — рухнет с палкой в руках вниз с утеса или не поднимется больше, нагнувшись сорвать съедобную травку. Повсюду смерть, только и всего. Зимой о нас позаботится снег и укроет все, потом оттепель ускорит наше смешение с почвой, рассеет по поверхности то, что останется от плоти и костей. Он видел это тысячи раз, и такое случалось не только с животными, в войну и люди умирали вот так у него на глазах.
Спускаясь той же тропой через пару часов, я ждал, что увижу его снова там же, где встретил на подъеме. Даже немного опасался. Но старика не оказалось: он, скорее всего, укрылся где-нибудь и подглядывал за мной. Позже, в деревенском баре, за десертом и лимонадом я попытался узнать что-нибудь об этом одиноком, плохо одетом человеке. Однако там все сильно удивились.
— Кто? — спросила барменша.
— Старик, совсем один, в паре часов ходьбы отсюда, во впадине…
— И кто он?
— Так об этом я вас и спрашиваю.
— Там нет никого, — встрял парень, сидевший за столиком вместе с приятелем.
— И тем не менее был.
— Может, турист какой.
— Нет, послушайте, он точно был не турист.
— Может, это старина… этот, как его… — сказал приятель парня.
— А он разве не умер?
— Кто?
— Да этот…
— Не думаю. Его видели прошлой весной, когда…
— Кто его видел?
— Люди. То есть я знаю тех, кто знает тех, кто говорит, что видели старину, когда…
— Можно было бы узнать у его брата, — размышляла вслух барменша.
— А, так у него есть брат? — спросил я.
— Можно было бы спросить у него.
— Да неважно, я просто поинтересовался, просто беспокоюсь, потому что мне показалось, что с ним не все в порядке, и…
— Может, он там со своим скотом.
— Но тогда с ним не было никакого скота. Только собака.
— А… Помнишь, как… — парень уже вовсю болтал со своим другом.
— Если была собака, значит, был и скот, — сказала мне барменша.
— Нет, я уверен, скота не было.
— А в хлев заглядывали?
— Нет, конечно.
— Может, скот был в хлеву.
— Но я не слышал мычания.
— Они ж не мычат по заказу.
Последовал смешок, от которого мне на мгновение стало не по себе.
— Ладно, забудем, — произнес я. — Просто беспокоюсь немного, вдруг он потерялся или, может…
Слишком часто «может» звучало в этой беседе. Барменша хихикала над чем-то, чего я не мог понять, и глядела то на других посетителей, то на меня.
— Да нет же, — сказала она мне, — вы правильно сделали. Может, пошлем кого-нибудь глянуть, как он там.
— Будьте осторожны, он в меня шишки кидал, когда я поднимался.
— Шишки?
— Шишки и камни. Будьте осторожны.
— Он в вас попал?
— Нет, слава богу.
— Вот видите, он не злой. Если б захотел…
Так вот, «Снег, собака, нога» родилась из этого небольшого эпизода. Несомненно, незначительное происшествие, ничтожный повод, но, чтобы заполнить лакуны, мне на помощь пришли фантазия и некоторые книги о неуютном существовании, которые я читал, комфортно устроившись, — книги о чудаках, романы Шарля Фердинанда Рамю, которые, кажется, никто больше не читает, или о безумных оборванцах с альпийских пастбищ, написанных на ретороманском (Лео Туор, Оскар Пер и Арно Камениш), или о неприкаянных героях Жака Шессе (я называю только швейцарцев, особо подчеркивая это). Кое-где осторожненько проросли отсылки к «Золотой лихорадке» Чаплина. Я ощущаю себя человеком равнин, земель плоских, в крайнем случае — холмов, хоть и родился в Альпах, и в горы хожу, только если знаю, что там голова не закружится, но это для меня своего рода вызов — один из тех, которые не несут серьезных рисков. Эпос резкий и дикий, немногословный, из повторяющихся движений, усталости, солнца в зените и внезапного сумрака, заморозков и болот, ежедневной борьбы со зверями и камнями.
И вот следующим летом я решил снова пройти той же тропой к той самой впадине. Меня влекло туда любопытство, не утихшее за зиму. Как провел зиму этот отшельник? Жив ли он еще? Запасся ли уже шишками и камнями, чтобы отгонять чужаков в новом году? А его пес, как там этот несчастный? Не отрицаю, я надеялся во второй поход отыскать достойное окончание истории, которую выстроил на основании крайне шатких допущений. Может, много раз говорил я себе (и вот снова это «может»), старый бирюк увидит меня и узнает, и на сей раз даже поздоровается, на свой манер, конечно, — промычит пару слов, едва кивнет головой. Уже кое-что. А я тогда его расспрошу, ему же достаточно будет хотя бы кивнуть. Я мог бы даже принести ему