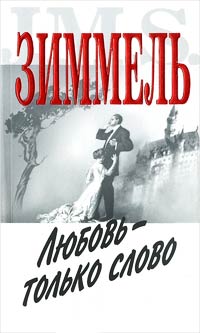— Не беспокойся, — самонадеянно произнес он, — я слишком холоден, чтобы обжечься.
И тут дива подошла к ним сама.
— Привет, Барни, — беспечно поздоровалась Грета. — Как реагирует организм?
— Нормально, — бодро ответил тот. И как можно более беспечно добавил: — Вчера я по тебе… скучал.
— Ах да, Барни, извини, что не получилось сходить с тобой. Но я… понимаешь… меня перехватил этот профессор… для разговора…
«Для разговора или для чего-то еще?» — мелькнуло у Барни.
— А когда я наконец добралась до комнаты, то у меня так разболелась голова… Я пробовала тебе звонить, но…
— Ничего страшного, — ответил он, — Сходим как-нибудь в другой раз, только и всего.
— И чем скорее, тем лучше! — кокетливо добавила Грета. Но больше говорить она не могла. Ведь в этот момент появился профессор Робинсон, ее преподаватель анатомии, а Грета как раз вспомнила, что у нее остались невыясненные вопросы. Она извинилась и побежала вслед за Робинсоном, а Барни завороженно следил, как движутся ее ягодицы.
Лора перехватила его взгляд и язвительно заметила:
— Кажется, тебе формалин в голову ударил. Не хочешь снять с себя эти провонявшие шмотки и вымыться, а?
Барни все еще пребывал в прострации.
— Господи, чего бы я не отдал, чтоб посмотреть на Грету в душевой!
— Заметано, Ливингстон, — ответила Лора с сарказмом, — я щелкну ее «полароидом» и подарю тебе на Рождество.
Барни вырос в неколебимой вере в чудодейственную силу мыла «Лайфбой». Но, черт возьми, он минут пятнадцать тер себя как проклятый, а в результате не тело приобрело запах мыла, а мыло стало пахнуть формалином!
— Я, кажется, останусь здесь навечно, — сказал он вполголоса.
— Это как «Филоктет» Софокла, — отозвался голос из соседней кабинки.
— Объясни-ка получше! — прокричал Барни, желая поскорее отделаться от мыслей об этом убийственном запахе.
— Удивляюсь тебе, Барн. Я думал, ты мифологию знаешь как дважды два. — Это был Мори Истман. — Филоктет был греческий герой Троянской войны, у которого рана так воняла, что никто не мог с ним рядом находиться. И вот его же товарищи отвезли его подальше и бросили на необитаемом острове. Но тут один авторитетный пророк сказал им, что без Филоктета — вонючего и все такое — им ни за что не взять Трою. И они притащили его назад. Неплохая аналогия, а?
— Не совсем, Мори. Потому что у нас здесь все воняют.
Вернувшись к себе, Барни запихал одежду в чемодан, твердо решив надевать в анатомичку один и тот же наряд, пока не истлеет. Он причесал тщательно вымытые волосы, переоделся во все свежее, но формалин по-прежнему буквально преследовал его.
Этот запах возымел неожиданный эффект, заставив первокурсников сбиться в дружную стаю. По той простой причине, что никто другой в буфете не желал с ними сидеть.
— И сколько из всего, что нам сегодня долбили, мы должны усвоить? — спросил Хэнк Дуайер. — Или достаточно будет научиться распознавать основные группы мышц, как думаешь?
— Дуайер, тут тебе не детский сад. Ты должен знать поименно каждую из трехсот мышц, откуда и куда они идут и как работают. Не говоря уже о двухстах пятидесяти связках и двухстах восьми костях…
— Черт тебя побери, Уайман, — оборвал Барни, — мы не в настроении выслушивать твои лекции о том, какие мы дураки. Если ты сейчас же не заткнешься, мы отнесем тебя в анатомичку и в порядке тренировки проведем вскрытие.
Барни заставил себя заниматься почти до одиннадцати часов. Затем он позвонил в женское крыло в надежде уговорить Грету выпить с ним чашку кофе. К телефону подошла Лора.
— Привет, Кастельяно. Можно с Гретой поговорить?
— Можно. Если ты ее найдешь. Я ее с самого ужина не видела. Оставить ей записку, что звонил возбужденный поклонник?
— Нет, у нее таких, наверное, тысячи. Я лучше спущусь, что-нибудь перекушу и залягу спать. Не хочешь выпить кофе?
— Уже поздно, Барн. Я только что голову помыла. Но я тронута, что ты еще обо мне помнишь — Она переменила тему: — Как продвигаются занятия?
— Пока что одна зубрежка. Неужели чем больше я в состоянии запомнить самых малых частей организма, тем лучше я буду лечить? Вызубрить эту чушь может каждый дурак.
— Именно поэтому, Барн, на свете так много неумных врачей. Они знают все названия, но не вкладывают в них никакого смысла. Насколько я слышала, настоящих больных мы увидим не раньше чем через два года.
— Ошибаешься, Кастельяно. Приходи на завтрак и увидишь настоящего инвалида.
Барни пожелал ей спокойной ночи и отправился на первый этаж, где стоял автомат, продающий шоколадки «Хершиз», «Милки-Вей», «Бэби Руте» и «Питер Полз» за грабительскую цену в восемьдесят центов.
Неторопливо шагая по коридору назад к своей келье, он вдруг услышал стук пишущей машинки. Это мог быть только один человек — утонченный интеллектуал Мори. Его дверь была открыта, давая всем возможность увидеть художника за работой. Проходя мимо этой двери, Барни сделал вид, что погружен в свои мысли.
Но увернуться не удалось.
— Ливингстон!
— А, это ты, Мори! Я иду спать. Сегодняшний день меня просто добил.
— Эмоциональное истощение?
— Полное!
— Шок?
— Пожалуй.
— И одновременно потрясение от первой встречи с мертвым телом?
— Ну, если честно, я предпочитаю встречаться с живыми телами.
— Вот это здорово! Это действительно здорово. Мори быстро склонился к машинке, и Барни предпринял попытку бегства.
— Ливингстон, неужели ты так и уйдешь?
— А что такое, Мор?
— Ты должен взглянуть, что такое на самом деле первый день на медицинском факультете.
— Ты это серьезно? А где, по-твоему, я весь день был?
— Перестань, ты должен прочитать, как живо я схватил всю эту «бурю и натиск».
Он протянул Барни пачку желтых листков. У того сейчас было одно желание — поспать, но в голосе Мори он уловил нотку страха.
— Ладно, — капитулировал Барни, плюхаясь на смятую кровать. — Давай взгляну, как искусство преображает жизнь — Он отложил в сторону свои калорийные сладости.
— Ого, здорово! — обрадовался Мори и немедленно стал разворачивать батончик «Хершиз». Потом, повернувшись к Барни, спросил с полным ртом: — Ты ведь не против, правда, Ливингстон? Я так увлекся, что забыл поужинать.
Барни стал читать. Мори удалось передать настроение, страх, трепет, ужас при виде того, как человеческое тело рассекают надвое, обнажая все его сокровенные тайны. Повествование не было лишено и доли юмора, особенно эпизод, рассказывающий о том, как один студент упал в обморок, а преисполненный сострадания автор бросился приводить его в чувство. Однако в результате не слишком тонкой авторской переработки материала человеком, пристально наблюдающим за объяснениями и действиями профессора Лубара, оказался сам Мори, а слабонервным студентом, упавшим в обморок, был не кто иной, как Барни!