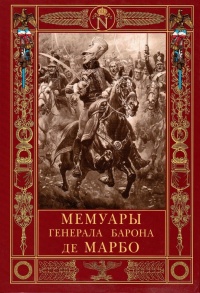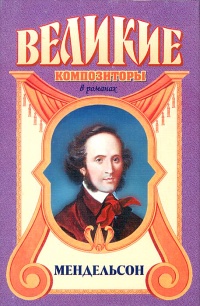юности моей,
Да скажет Израиль;
Много теснили меня от юности моей,
По не одолели меня.
На хребте моем орали оратаи,
Проводили длинные борозды свои.
Но господь праведен;
Он рассеет узы нечестивых…
* * *
Пришел я в себя на мягкой белой постели, на коей лежал ничком, на спину мою как будто давил тот деревянный крест, что донес некогда до Голгофы Симон Киринеянин. Я услышал запах целебных мазей, увидел золотистый свет, заливавший Борьес, а у изголовья моего ложа увидел Финетту.
Девушка рассказала, как прошла казнь, и рассказ ее поразил меня так же, как поразил ее самое тот спор, что вела она со старейшиной Трех долин.
Оказалось, что мне дали всего тридцать ударов, и следы, оставленные ими на моем теле, свидетельствовали, что до сотого удара мне бы не дожить. Ни Финетта, ни Пужуле, и никто из «Сынов Израиля», посетивших меня, не могли сказать, кто и каким образом добился избавления меня от остальных семидесяти ударов, но я тут почувствовал руку Пеладана, тайные ходы старика судьи и всегда буду питать к моему хозяину чувство сыновней благодарности, ибо он спас мне жизнь.
Бешеный Бык рассказывал, как он был поражен, услышав, что я и под розгами продолжаю петь псалом, и по всему Шамборыго разболтал, что от изумления у него рука ослабела, так что ему удалось сломать мне лишь три ребра с левой стороны (он был левша) и одно ребро с правой стороны. «Сыны Израиля» говорят, что господь уменьшил силу палаческой руки, а Дидье Пеншинав клянется и божится, что в карманах кузнеца звенят золотые экю, полученные за то, чтобы он розгами больше поднимал свист, чем раздирал мою спину, но все, включая и племянника соборного причетника, свидетельствуют о том, что произошло, когда кузнец сломал о мой хребет тридцатую розгу и остановился. Тогда, говорят они все, веревка размоталась с блока, сорвалась, быстрая, как гадюка, и хлестнула отца Ля Шазета по носу, будто нарочно нацелилась на пего, и вся толпа на площади Коломбье разом ахнула.
И в ту лее минуту чей-то громовый голос воскликнул:
— Сказал господь: «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть». Еще слушайте, почитаемые старцы, поклоняющиеся агнцу, слушайте: сему черному козлу не видать больше, как цветут вишни, ибо он уже будет к той поре умерщвлен, а вслед за ним мы убьем и других, ибо вы поклоняетесь ныне ложному агнцу, — вот, старцы, какая истина изречена вам детскими устами.
Пророчество это как будто низверглось с неба, загремев, словно раскаты грома, и нескоро люди поняли, что исходит оно из уст Луизе Мулина из Виала, нашего маленького Луизе Комарика.
* * *
Едва отзвучало прорицание, отец Ля Шазет исчез, и мы уже никогда больше не видели его. Весть о его смерти дошла до нас в начале; весенней поры через какого-то купца, имевшего деда с монастырем траппистов в Бастиде, где укрылся наш попик. Бывший питомец семинарии в Сен-Жермен-де-Кальберт жестоко страдал от зловредных ветров, поднимавшихся у него с низу живота через желудок к мозгу. Нарушая обет молчания, несчастный все спрашивал, где первыми в том краю зацветают вишни.
Узнав, что в ущелье Лекланеид одно деревцо готовится Зацвести, он, забравшись на скалу, нависшую над обрывом, не сходил с нее ни днем, ни ночью, следя в тревоге за набухшими почками. Через две недели отца Ля Шазета нашли мертвым — он лежал с разбитым черепом под скалой у подножия вишни, осыпанной благоуханными, непорочно чистыми цветами.
Итак, само небо подтвердило вдохновенные свыше слова нашего малыша Луизе, и сколько еще чудес с тех пор излило оно на малый край, дорогой нашему сердцу, — я узнал это лишь после выздоровления, когда ноги уже могли держать меня и я в силах был брести, влекомый зрением и слухом.
* * *
Господи, дозволь мне помолиться за идолопоклонника, за паписта!
Когда стемнело, я впервые за день сделал передышку, чтобы остыло мое перо, бежавшее ровной рысцой, как мул по знакомой дороге.
Поесть, попить, поразмяться в сумерках — все-таки меньше свечки выгорит: так я безотчетно рассчитал, как оно и подобает прирожденной бережливости горца.
Я спустился к реке, уже окутанной вечерней мглой, как вдруг слышу: кто-то поднимается по склону горы в нашему тощему винограднику — раздается такой привычный скрип колес, топает копытами мул. Мне хотелось узнать, кто бы Это мог быть, и раз свеча еще не была зажжена, я юркнул в кусты терновника и дрока, коими за пять лет заросла земля, достояние моих предков, и, осторожно пробравшись, спрятался за стволом старой смоковницы. Я услышал тихий разговор, шум работы, старательно приглушаемый, и вдруг из-за Лозера выплыла большая, совершенно круглая луна.
И что ж я тогда увидел! Двое Лартигов из Пон-де-Растеля торопливо обрабатывали мой виноградник; Дуара-отец укреплял опорную стену деревянными кольями и камнями, привезенными в тележке, а стена очень нуждалась в починке: земля разбухла от талого снега и сползала все ниже, того и гляди обвалится; Дуара-сын обрезал лозы, вскапывая землю вокруг них, выпалывал все заглушавшие сорные травы.
Не переставая втыкать колья и подпирать стену камнями, отец ворчал:
— Еще бы две недели промешкать, и весь виноградник в речку