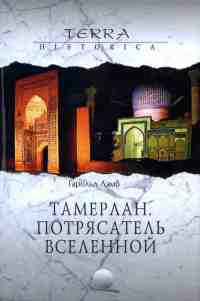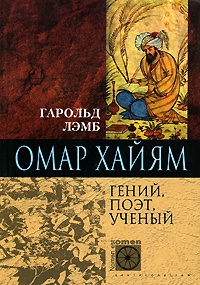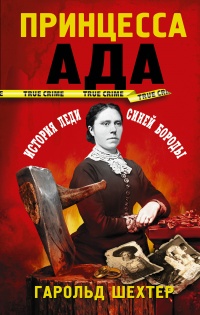Когда я покинул Цирцею, которая больше года удерживала меня вблизи Гаэты, еще не названной так Энеем, ни нежность к сыну, ни обязательства перед престарелым отцом, ни перед Пенелопой долг любви, которая обрадовала бы ее, не смогли смирить во мне страсти изведать мир, человеческие пороки и достоинства; и я пустился в открытое море с одним лишь кораблем и теми немногими спутниками, что не оставили меня. И один берег, и другой видел я — Испании, Марокко, и Сардинии, и других островов, что омывает море. Я и мои спутники были уже стары и медлительны, когда вошли в узкий пролив, где Геркулес поставил свои столпы, чтобы никто не плыл дальше. По правую руку осталась Севилья, по левую оставалась Сеута. «О братья, — сказал я, — пришедшие, невзирая на сотню тысяч опасностей, на запад, не откажите своим чувствам, которым так недолго осталось бодрствовать, в изведании, вслед за Солнцем, безлюдного мира. Задумайтесь, от кого вы произошли. Вы родились не для того, чтобы жить, как животные, но для добродетели и знания». Мои спутники стали так рваться в путь после этого краткого слова, что я едва мог их удержать, и, повернувшись кормой к утру, мы превратили весла в крылья для безумного полета, все время клонясь влево. Затем ночь увидела все звезды другого полюса, а наш был так низко, что не поднимался со дна морского. Пять раз свет загорался и столько же раз гаснул под луной с тех пор, как мы миновали тот длинный проход, когда нам увиделась гора, плохо различимая издалека, и мне показалось, что горы выше я никогда не видел. Нас наполнила радость, но вскоре она обернулась слезами, ибо от новой страны налетел шквал и ударил в нос корабля. Он три раза повернул его в водовороте, на четвертый — поднял корму кверху, а нос бросил вниз, как повелел Некто, и море вновь сомкнулось над нами.
Даже в виде английской прозы, а не сверхъестественно сильных итальянских терцин, — разве может этот необыкновенный монолог вызвать у обыкновенного читателя мысль, хотя бы отчасти сходную с той, что выразил одареннейший из специалистов по Данте? «Дантово крещение в смерть и следующее за ним воскресение отличает от Улиссовой окончательной смерти от воды явление Христа в истории или благодать, явление Христа в отдельной душе».
Понятно, что эту мысль с тем же успехом способен вызвать и бесконечно более слабый пассаж. Есть несоразмерность между доктриной — или набожностью, не признающими никаких разногласий, только приятие, — и поэтическим текстом, практически не имеющим соперников. Читать Данте, во всем полагаясь на христианскую доктрину, попросту неправильно — пусть даже доля ответственности за этот редукционизм и лежит на самом Данте. Согласно плану Дантова Ада, мы находимся в восьмом рве восьмого круга, не так далеко от Сатаны. Улисс — лукавый советчик, во многом благодаря той роли, которую его ловкость и хитрость сыграли в падении Трои, прародительницы Рима и, следовательно, Италии, о чем рассказано у Вергилия. Данте не обращается к Улиссу потому, что в определенном смысле он и есть Улисс; чтобы написать «Комедию», надо было отправиться туда, где по ту пору не бывал никто[112]. И Данте совершенно ясно дает нам понять, о чем его Улисс не расскажет: о смерти Ахиллеса, о троянском коне, о похищении Палладия — обо всем том, что навлекло на странника проклятие[113].
Его последнее путешествие, несмотря на свой итог, к этому не относится. Загоревшись сам, Данте склоняется к огню, в котором горит Улисс, вожделея знания, томясь по нему. Знание, которое он получает, — это знание о чистом поиске, в жертву которому принесены сын, жена и отец. Этот поиск, среди прочего, — метафора изгнания Данте, продленного его гордостью и непреклонностью: он отказывался принять условия, на которых мог бы вернуться к своей семье. Есть горестный устам чужой ломоть, на чужбине сходить по ступеням[114] — это одна цена, которую платишь за поиск. Улисс готов заплатить более высокую цену. Чей опыт по-настоящему ближе к опыту Данте — триумфальное обращение Августина или последнее путешествие Улисса? Легенда гласит, что прохожие показывали на Данте пальцем как на человека, каким-то образом вернувшегося из путешествия в Ад, словно он был некий шаман. Мы можем допустить, что он верил в свои видения; для поэта такой силы, считавшего себя истинным пророком, схождение в Ад не могло быть простой метафорой. Его Улисс говорит с абсолютным достоинством и страшной пронзительностью: тут не пафос проклятого, но гордость и памятованье о том, что гордость и храбрость ему не помогли.
Эней Вергилия — отчасти зануда, и таковым же делают Данте многие дантоведы — вернее, делали бы, если бы могли. Но он — не Эней; он так же необуздан, эгоцентричен и беспокоен, как его Улисс, и, как его Улисс, он горит желанием «быть не здесь», отличаться. Наверное, дистанция между ним и его двойником оказывается максимальной, когда он заставляет Улисса произнести эти волнующие слова о «чувствах, которым так недолго осталось бодрствовать». Надо помнить, что Данте умер в пятьдесят шесть лет, а хотел прожить на четверть века больше: в своем «Пире» он обозначил идеальный возраст — восемьдесят один год. Лишь к этому сроку он осуществился бы полностью и лишь тогда, возможно, сбылось бы его пророчество. Притом что Улисс отправляется в «безлюдный мир», а космические странствования Данте происходят в краях, населенных одними мертвецами, эти два искателя отличаются друг от друга, и Улисс, безусловно, отчаяннее. Созданный Данте искатель — по меньшей мере героический злодей наподобие Мелвиллова Ахава, другого богоподобного безбожника[115]. Гностический или неоплатонический герой — вовсе не то же самое, что герой христианский, но христианский героизм не слишком трогает воображение Данте — если, конечно, он не восхваляет своего крестоносного предка Каччагвиду, который платит своему потомку сторицей, славя его храбрость и дерзость. В том, как Данте видит Улисса, кроется восхищение, солидарность, семейственная гордость. Приветствуется родственный дух — пусть и пребывающий в восьмом кругу Ада. Это ведь сам Улисс называет свое путешествие «безумным полетом», предположительно противопоставляя его полету Данте, который направляет Вергилий.