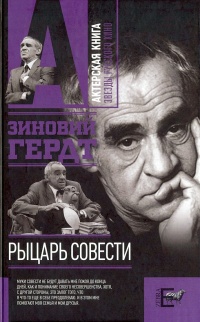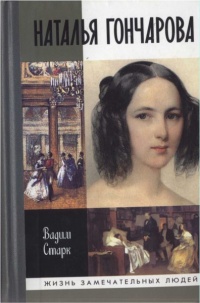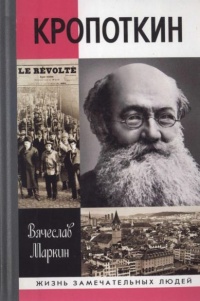Но эффект, произведенный его речью, был сейчас же уничтожен разразившимся шумом. Прежде чем старшина мог ответить, вскочил его верный соратник, Липман Спира. Уже во время последних слов ученого он ерзал от нетерпения. Теперь он бросился к Аарону Просницу со словами:
— Это обман, жалкий обманщик, лжец, лжец, выгнать тебя надо! Убирайся вон!
Вокруг поднялись на защиту Просница. Здесь всякий имеет право высказать свое мнение. Для этой цели сюда и собрались. Даже старый Соломон Меркль, который, как это часто с ним бывало на заседаниях, задремал с полузакрытыми глазами, проснулся от шума и ласково попросил разъяренного Спира умерить свой пыл. Другие ударяли ладонями по раскрытым фолиантам и повторяли: «Ша, ша, ша», требуя спокойствия. Но Спира неистовствовал. Борода его, которую он теребил пальцами, была всклокочена, он кричал, что не может оставаться в одной комнате с нечестным человеком, который говорит вопреки собственному убеждению. Пускай либо удалят Просница, либо он покинет совещание. Старшина ударил ладонью по своей книге, зычно крикнул «ша», и только тогда все затихло.
— Ты останешься, и он останется, — отрывисто и спокойно сказал Мунка. — А говорить будет рабби.
Рабби Марголиот, сопровождаемый судебными заседателями, пришел незадолго перед тем, и старшина, безупречный в таких формальных любезностях, предоставил ему честь, полагающуюся ему по рангу. Но Спира в своем честном возбуждении долго еще не мог успокоиться. Дрожа всем телом, он обиженно поглядывал на Мунку, который лишил его слова. Ему особенно больно было такое отношение со стороны человека, которого он почитал от всей души и за которого готов был бороться до последней капли крови. Как непокорное дитя, он зарыл голову в руки и почти плакал.
— Я могу и помолчать, — ворчал он. — Пожалуйста, если угодно, мне все равно. Я совершенно бескорыстно хотел отстаивать хорошее дело. Я был и остаюсь убежден, что Просниц советует неправильно. Больше я ничего не хотел сказать. Личность его меня не интересует. Но если кто-нибудь в этом собрании, — здесь он снова вскочил, — усомнится в моем бескорыстии и будет утверждать, что я говорил по личной злобе на Просница, а не в интересах дела…
А на другом конце комнаты Аарон Просниц, с бледным лицом, кашляя, тоже клялся в чистоте своих побуждений. Он тоже стремился только к тому, чтобы собрание вынесло правильное постановление. Никакие побочные интересы не руководили им.
«Они чисты и бескорыстны, как будто это теперь нужно», — думал Давид, сидя в своем уголке. Его приводила в ужас бездарность этих людей. Они думали о своей чистоте, а не о спасении народа. Разве эта непомерная гордость своим безгрешием не являлась злейшим грехом, разве не была она предательством?
Рабби начал свою речь:
— Человек бежит ото льва, а навстречу ему медведь. Он спешит в дом, опирается рукою об стену, и его кусает змея.
Рабби демонстрировал свою ученость почти так же, как и молодой историк. Тот цитировал рескрипты, здесь сыпались цитаты из Писания и комментариев к ним. Это тоже длилось бесконечно, хотя собрание уже вскоре стало обнаруживать признаки нетерпения. Впрочем, и у рабби был свой проект. Он указал на бургграфа Лео фон Розмиталя, который уже неоднократно давал понять, что за хорошую ежегодную плату он готов сделать евреев своими подданными, «охранными евреями», и изъять их из юрисдикции короля и пражских шефенов.
Лицо старика Мунки затуманилось. Давид понимал его нетерпение. Все то, что ему подносили как великие открытия и великую мудрость, все это он уже давно испытал, сам испробовал бесконечное множество раз и, понятно, не преминул сделать и в данном случае. Прежде чем ухватиться за последнее средство — аудиенцию у короля, он испробовал другие, мелкие средства, которые ему здесь предлагали как совершенно оригинальную выдумку. Или, может быть, молодой Ааарон Просниц действительно думал сказать ему что-нибудь новое, когда напоминал об окольных путях протекции и, может быть, даже подкупа. Это, пожалуй, особенно раздражало старшину, который за годы своего пребывания на посту десятки раз с успехом пользовался такими средствами, тогда как кабинетный ученый Просниц был знаком с ними только понаслышке. А с бургграфом, о котором упомянул рабби, как он уже несколько недель тому назад докладывал в совете, неоднократно вел переговоры Кралик, и каждый раз безуспешно. Так к чему же теперь вся эта болтовня? Вместо того, чтобы сказать: поступай так, как найдешь правильным, ты — единственный человек, который по многолетнему опыту разбирается в делах, — вместо того, чтобы сказать это, люди вносят бесполезные предложения, только путают и мешают. Каждый хочет говорить сам и как можно больше. Никто не в состоянии отказаться от слова, ну, хотя бы из самодисциплины. И Давиду казалось, что на лице этого строгого, непоколебимого человека было выражение усталости.
Заседание продолжалось.
Обнаружилось, что, в сущности, не было никаких настоящих партий, расходящихся во взглядах. Предложениями обоих главных противников Мунки и Кралика никто не занимался. У каждого был свой собственный проект, который он считал единственно правильным и по сравнению с которым все остальные возможности спасения, предлагавшиеся другими, представлялись ему обманчивыми и даже вредными и требовали самого энергического противодействия. То, что говорили другие, встречалось безусловным презрением. Каждый говорил прямо и резко, но почему-то эту резкость, хотя ее все проявляли, считал совершенно из ряда вон выходящей, как будто лишь у него одного хватило на это смелости. И поэтому каждый, не стесняясь, порицал остальных и, видимо, гордился тем, что он не стесняется в своих выражениях и сеет вражду и раздор. «Видишь, я всюду наживаю врагов», — говорил его торжествующий взор. В этом собрании не было человека, который не считал бы себя самым умным, самым лучшим, единственным повелителем и вождем. А если он публично признавался в своих недостатках, то это была лишь игра, потому что он считал, что именно таким припадком раскаяния он особенно подчеркивает свою ценность. И, сжимая кулаки, Давид думал: «Как хорошо, что я отдался греху. Я нехороший, но, по крайней мере, я явственно вижу зло. Я не позволю себя обмануть».
До всех дошла очередь, и все говорили. Тем временем наступил полдень. Некоторые ходили домой закусить, но когда им предоставляли слово, они оказывались на месте. Все хотели говорить, никто не желал слушать. Даже добродушный старый Соломон Меркль, когда его разбудили, произнес речь, не имевшую никакого отношения ко всему, что говорили остальные, и сводившуюся главным образом к воспоминаниям его юности, которые, по его мнению, он должен был изложить как нечто чрезвычайно существенное для понимания нынешней ситуации.
К середине дня затянувшиеся прения, наконец, уперлись в вопрос: аудиенция или доктор Ангелик. Давид удивлялся. Все остальные побочные предложения, словно повинуясь естественному закону природы, отпали, причем инициаторы этих предложений даже не замечали того. Просто уже не говорили больше о бургграфе и об остальных богемских чиновниках, о письмах в Польшу, о германском императоре, об апелляции к папе, о всех этих весьма отдаленных и часто нелепых средствах, которые так ревностно защищали. Все это был мнимый поединок. Его нужно было разыграть, а теперь все приходило к концу. И становилось ясным.