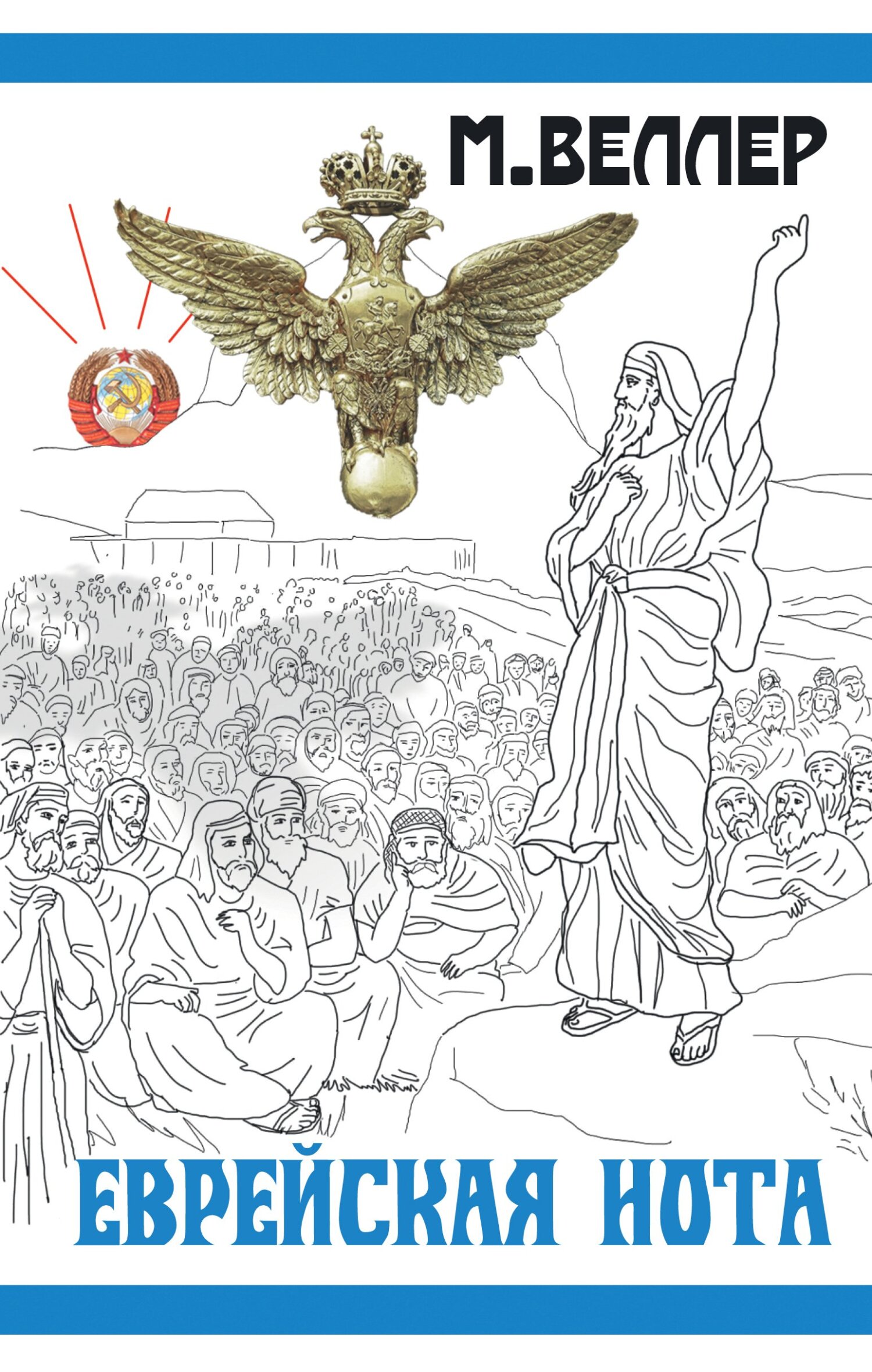тобой точку невозврата. Вернешься ли ты?»
Эх, Руʼйа, Руʼйа! Я больше твоего хотел бы вернуться, но кто вернет мне мое тело, мое сердце, мои мысли? Кто зажжет страсть за этими поношенными ребрами? Что толку в подобном возвращении без человека, которого объели дни и ночи? Годы, долгие годы почти что загасили в этом несчастном нечто, называемое любовью…
Я сказал «почти» потому, что я снова испытываю нежность по отношению к тебе, дорогая Руʼйа! Я хочу хотя бы еще один раз увидеть тебя или услышать. Ты ничего не знаешь о Последнем дне, ничем не обнажаешь сожаления о своих грехах. Пускай твое письмо намекает на раскаяние, пускай, но я жду большего.
Удивительно! Зачем мне это «большее»? Почему мне не хватает твоего красноречивого письма? К чему мне вообще какая бы то ни было сатисфакция? Мне осталось жить считаные часы. Зачем мне твои слова – высказанные и невысказанные? Зачем мне твои – или чужие – поступки? Мой расчет с миром окончен или почти что окончен. Я должен превратить последние свои часы в праздник, которому позавидуют люди, должен отомстить вселенной, прокричать ей: «Сегодня я с легкостью сбрасываю твое ярмо! Сегодня я стираю тебя из своих глаз и ушей, сердца и мыслей! Сегодня я вымываю тебя из своей крови! Сегодня меня не волнуют твой гнев и радость, не интересуют твои угрозы и обещания! Сегодня мой и твой Последний день! Где меня нет, там нет и тебя; где заканчиваюсь я, там заканчиваешься и ты…»
Так я хотел бы обратиться к миру, отречься от него и, наконец, превознестись над ним. Но для этого мне не хватает смелости. Я по-прежнему нуждаюсь в благах этого мира: я жду слова Руʼйа, ее раскаяния, ее любви, я предвкушаю собственное назначение деканом факультета, я предвижу момент, когда Хишам явит миру своей гений и когда его имя будет упоминаться вместе с именем его отца… Я хочу бессмертия! Коль скоро я сам не сделал ничего примечательного, пусть бессмертие высечет в граните имя человека, произошедшего из моих чресл, пускай о нем говорят как о моем сыне, мне хватит и этого.
Я вспомнил о Хишаме, и вся моя обвинительная речь против мира начала рассыпаться. Я не могу добровольно уйти из мира, где есть Хишам, тем более, после того как он пошел и заговорил. Как я смею очиститься от этого мира или исторгнуть его из себя? Я притянут к нему такими канатами, что куда крепче тех, что притягивают пароходы к пирсам.
Я знал, что мальчик спит в своей комнате, и, хотя искренне желал ему отдохнуть как следует после тех приключений в саду, не сдержался, подошел к двери спальни и тихо ее приоткрыл. К моему удивлению, Хишам не спал. Он сидел в кровати, обхватив, словно иной мыслитель или богомолец, свою огромную голову руками. На этот раз он заметил меня в узкой щели дверного проема и негромко сказал:
– Ты пришел вовремя, папа. Проходи, садись рядом. Я расскажу тебе о своем сне. Я до сих пор о нем думаю.
Я подошел, обнял его и поцеловал.
– Говори, – сказал я, устраиваясь поудобней.
– Ах, если бы я умел фотографировать!..
– Ты предпочитаешь фотографию всем другим видам искусства?
– Да. Я хотел бы запечатлеть кое-что, прежде чем оно убежит прочь от моих глаз.
– Что именно?
– Не «что», а «кого», мужчину, подарившего мне утреннюю звезду.
– Утреннюю звезду?!
– Да, утреннюю звезду.
– Сынок, я ничего не понимаю. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
– Слушай, папа, и, прошу тебя, верь мне. Я попытаюсь рассказать обо всем так, как оно было на самом деле. После прогулки у клумбы я действительно заснул. Во сне я шел по узкой тропинке, как-то необычно прочерченной на огромной пустой равнине, не знаю, как и почему я там оказался, и тем более, куда она ведет… Вообще-то, удивительная вещь, папа! Веришь или нет, но все эти годы во снах я либо ходил, либо летал, либо с кем-то спорил или произносил речь перед шумной толпой.
Внезапно, как это бывает только во снах, вся равнина свелась в узкий, темный подвал. За спиной вдруг раздался жесткий голос: «Не смей останавливаться или оборачиваться назад!» Время от времени кто-то сзади бил меня железным прутом, а я шел вперед, натыкаясь на тысячи препятствий. Мне было страшно: я не понимал, сталкиваюсь ли с неодушевленными предметами, с растениями или животными.
Когда я чуть не шмякнулся оземь от страха, то услышал голос, но другой, не тот, что подгонял меня в начале сна. Он говорил, а моя кровь блаженно холодела, мои раны быстро затягивались. Голос сказал: «Не бойся. Утренняя звезда поджидает тебя у выхода из подвала»… Наконец я добрался до дверей подвала и лицом к лицу столкнулся с мужчиной, которого сначала принял за джинна. Он был одет в синюю, как высокое весеннее небо, мантию, у него была длинная седая борода, на голове красовался синий тюрбан. Из его глаз струился спокойный, теплый свет, и, если бы не этот свет, я не увидел бы его доброго лица. Только-только светало, звезды наверху еще перемигивались и смеялись. И я, и он молчали. И тут он протянул руку, сорвал с неба самую яркую, самую прекрасную звезду и приколол, как орден, к моей груди. «Вот, она – утренняя звезда», – сказал он и исчез. Подумать только! Этот дух каким-то образом сорвал с неба звезду!.. Я попытался было его позвать, но голос мне изменил, и я проснулся.
Хишам замолчал. Выдержав довольно мрачную паузу, он угрюмо спросил:
– Папа, как ты объяснишь этот сон?
– Ах, Хишам! Когда б я только был толкователем снов…
– Как ты думаешь, есть ли у снов смысл?
– Смысл есть у всего, что существует во вселенной, но как нам узнать смысл всего?
– А было бы неплохо, папа…
Хишам снова замолчал, вернувшись к своим мыслям, ну, или к своей необычной молитве.
Час одиннадцатый
Ко мне в комнату вбежала заплаканная, убитая горем ʼУмм Зайдан. Беспокойно простирая руки, она жалобно причитала:
– Несчастный! Несчастная!
– Кто несчастен, ʼУмм Зайдан?
– Этот бедняга и его жена!
– Кто?
– Глава!..
– Какой глава? Глава деревни?
– Да-да, глава деревни, ʼАбу Шукр Аллах.
– Что случилось? Он умер?
– Ах, если бы!
– Так почему же он несчастен?
– Ты не слышишь, как воют его домочадцы?
– Конечно слышу, ʼУмм Зайдан. Как ты смогла определить источник звука?
– Мне рассказала соседка минуту назад.
– О чем?
ʼУмм Зайдан снова всплеснула руками, ударила себя по щекам и