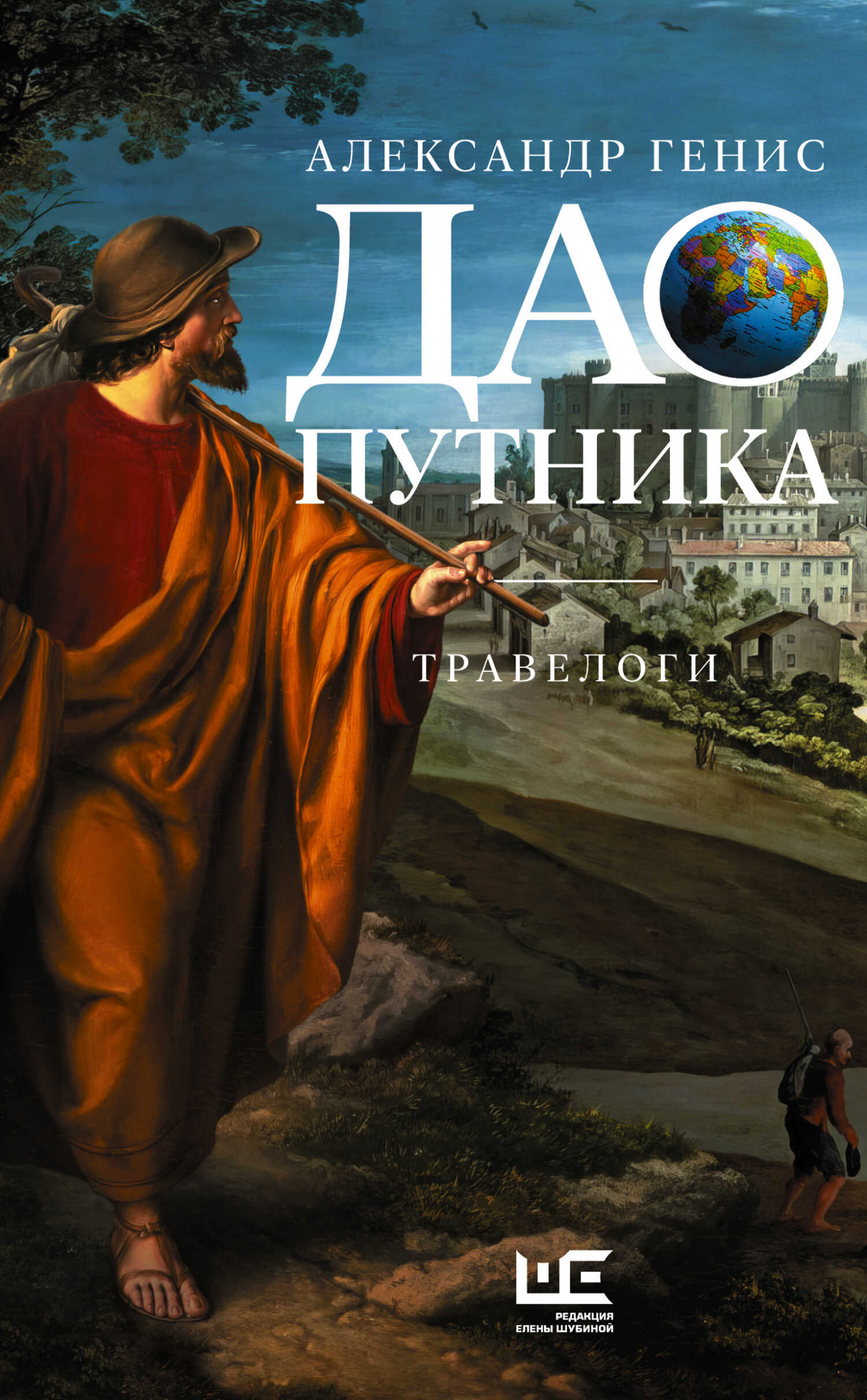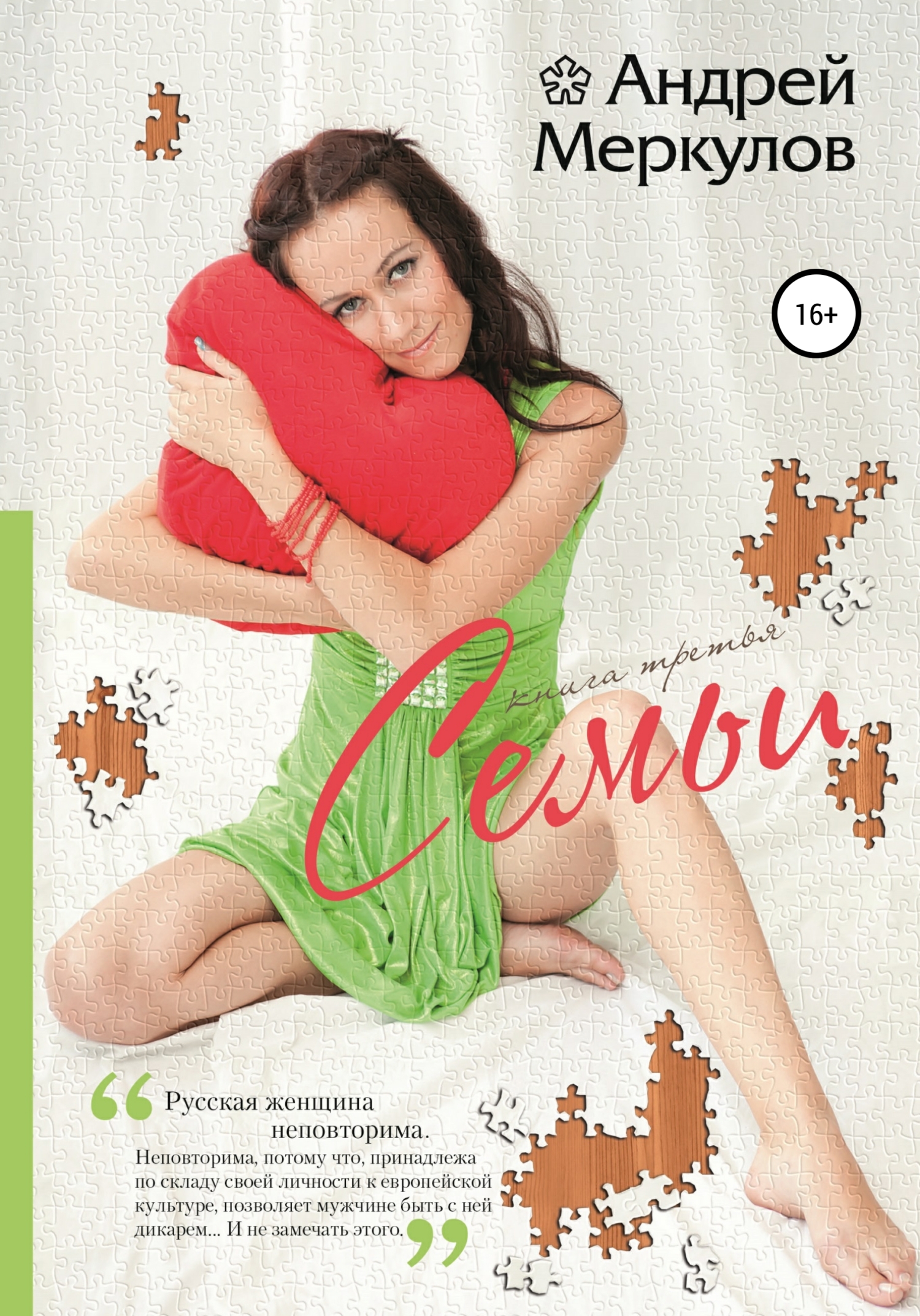как ножик; против нее нет защиты. Недаром прослыли вы таким злым человеком! Осмеять друзей своих, родных — для вас ничего не значит! Да и то правда, вы никого не любите?..
— Я люблю друзей своих, — отвечал вспыльчиво Щетинин, — вот хоть князя Чудина, например. Поверьте, что все советы мои могут только клониться к его пользе.
— Надина, прикажи, чтоб закладывали карету, да ступай одеваться: я возьму тебя нынче с собой.
Наденька вышла.
— Не правда ли, что она очень хороша? — спросила с улыбкой графиня.
Щетинин, в знак согласия, кивнул головой.
— Еще дитя, кажется, а вообразите, уж помолвлена…
— Помолвлена! — воскликнул Щетинин.
— Да. Это тайна, разумеется; но вам, как родному, ее можно поверить. Не говорите только о том никому…
А что, Тальони танцует сегодня?..
— Танцует… кажется…
— Приходите ко мне в ложу…
Оба встали.
В это время Наденька тихо возвращалась в свою комнату.
— Няня! — спросила она. — Ты знаешь князя Щетинина, который бывает у сестры?
— Видала, кажется, чернобровый такой.
— Няня, говорят, что он злой человек.
— Быть может; да какое нам, матушка, до них дело?
— Жалко, няня!
— И, матушка, Христос с ними!
VI
Ах, ma chere [27], какая она жантильная!
(Институтский Словарь)
M-lle Armidine, первая красавица целой Коломенской части, была точно очень недурна собой. Влюбчивые флотские капитан-лейтенанты рассказывали о ней в Кронштадте товарищам с удивительным жаром; многие столоначальники, даже несколько начальников отделения нередко задумывались о ней, согнувшись над делом и забывая нужную для доклада справку. О ней и в Измайловском полку поговаривали с удивлением; о ней и на Васильевском Острову упоминали с завистью. Она точно была очень недурна собою, но, сказать по секрету, красоте ее вредила какая-то странная жеманность и принужденность в обращении. Она говорила с ужимками, делала маленький ротик, щурила глаза, притворялась слабонервною и чувствительною, одним словом, всячески старалась подражать обветшалым манерам, которые она предполагала в дамах высшего круга.
Мать ее, Нимфодора Терентьевна, вдова промотавшегося откупщика, была добрая, толстая женщина, созданная гораздо более для Москвы, чем для Петербурга.
Верная старине своей, она не изменила костромского образа жизни и не заразилась заморскими причудами: ела за обедом огромные кулебяки, пила после обеда квас, бранилась за картами и, по преданию всех матерей, имеющих товар, готовый для сбыта, давала каждое воскресенье вечеринки для сбора женихов — хитрость старинная, не всегда удачная, но в большом употреблении в Коломне и в Москве.
В Петербурге, как, может быть, известно вам, образованный класс (я разумею людей чиновных, дворян, служащих и отставных, одним словом, сословие более или менее классное) разделяется на различные слои. Высший присвоил себе название хорошего общества, а прочие гнездятся около него и всячески, как m-lle Armidine, стараются ему подражать. Эти второстепенные общества как будто карикатуры первого: они тоже имеют своих красавиц, своих франтов — все то же, только в другом размере. Малодушное тщеславие, которое в высшем обществе прячется под золото одежды и мишуру разговора, тут явственнее и досадней: тут только и речи, что о знати да о чинах, да о знатном родстве, да о будущих милостях; о том, кто получит ленту, о той, кто будет к празднику фрейлиной, да о платье такой-то графини, о парике такого-то князя; одним словом: все хочет казаться значительнее того, чем бог создал. Со всем тем вы тут найдете ту же зависть, те же расчеты, которые господствуют в первом обществе, но не найдете того лоска образованности, той непринужденности de bon ton [28] — извините за слово, — которые исключительно отличают избранных высшего круга.
Леонин, проведший детство свое под крылышком бабушки, а потом в губернской гимназии, не имел понятия о подобных подразделениях. Быв, при самом приезде в Петербург, представлен в дом Нимфодоры Терентьевны одним из своих товарищей, он был чрезвычайно счастлив, что мог влюбиться в существо столь отличительное, столь идеальное, как m-lle Armidine. Она была такая очаровательная, она так мило выговаривала monsieur… Leonine, она так мило рисовалась поэтической, воздушной, неземной… Корнетское воображение разгорелось, и Леонин каждое воскресенье выпрашивал себе мазурку и, облокачиваясь на стул коломенской Сильфиды, тихо шептал ей о счастье супружества, о рае взаимной любви. Тогда речь его была восторженна, мечты пылкого сердца изливались звучными словами, и он яркими красками изображал, как сладко любить в жизни и как сладко жить вдвоем.
Но был ли он влюблен точно?
Я, по известным причинам обязанный знать все его тайны, должен откровенно сознаться, что нет. Чувство его было какое-то тревожное, полуребяческое, девятнадцатилетнее, которое в каждой хорошенькой женщине ищет осуществления своей мечты; к тому же вкрадывалось и лестное очарование удовлетворенного самолюбия.
Хотя m-lle Armidine была до крайности воздушна, но не менее того мысль о замужестве имела для нее, как и для всех барышень, особую завлекательность. Она глядела иногда на Леонина так томно, так томно, а потом вздыхала… И лучшая ее улыбка была для него, и самое задумчивое слово было для него… «Бедная девушка, как она влюблена! — думал Леонин. — Она мне неограниченно отдала свое сердце, она любит меня до безумия… и неужели я буду неблагодарен? Нет, вопреки бабушке, вопреки целому свету я должен оправдать ее доверие… Я женюсь на ней, я хочу на ней жениться, я должен на ней жениться!..»
Так прошло несколько месяцев. А пока… молодой корнет огляделся, получил понятие о другой сфере, сделал некоторые знакомства, между прочим, с Сафьевым, который, по необыкновенной в таком человеке странности, чрезвычайно полюбил его и начал объяснять ему жизнь по-своему.
И вдруг на вечеринках в Коломне не стало моего Леонина… Прошло несколько воскресений сряду — и стул подле m-lle Armidine не был уже занят пламенным корнетом. M-lle Armidine была расстроена и смеялась еще принужденнее, чем прежде.
А Леонин, неблагодарный Леонин, переставал постепенно о ней думать. Развлечения Петербурга все более и более его завлекали, заглушая внутренний голос совести, укоряющей его грозно в предосудительном поступке с семейством, где он был обласкан и принят как родной. Знакомство с графиней довершило неблагодарность.
Он представил себе, как сладостно, как неизмеримо упоительно быть втайне любимым подобной женщиной и быть ей светлою отрадой между блестящих мучений и улыбающегося горя великосветского быта!
Приглашение на бал княгини было доставлено Щетининым. Наступил день бала.
VII
Галантерейное обхождение…
(«Ревизор», д. II, явл. I)
Выразить ли вам, с каким трепетом он подъезжал, в своей наемной карете, к иллюминованному крыльцу?
Для него начиналась новая жизнь, и он чувствовал, что