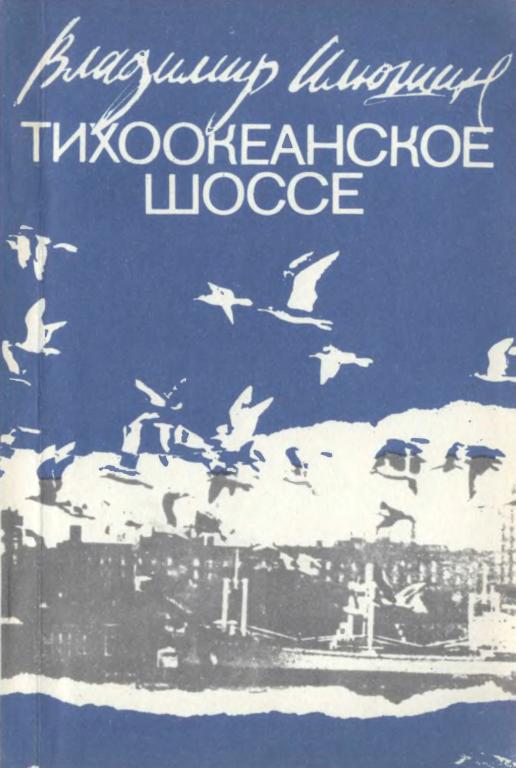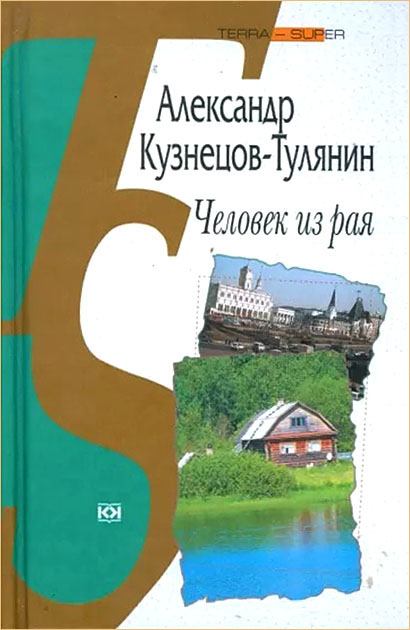И гроб приготовил, и крестик. Все честь по чести. Ходил он по деревням прошаком, кусочки собирал. А вместе с ним жили восемь собак и восемь кошачек. Ну помер, его и похоронили в тоей ямке. И так выли собаки с кошками – ну просто ужас. Повыли-повыли и куда-то все поразбрелись, можа, и пропали какие-то возле ямки…
– И что ты мне мозги компостируешь… Развела скотины полный двор, вот и горбаться, – пробурчал Артём, тяжело перемогая похмелье. Слова прилипали к языку и походили, наверное, на прогорклую жвачку, которую надобно выплюнуть, да сил нет.
– Немтыря! За-го-во-рил? Отворил пасть-то! – гневно вскричала мать, особо не чинясь с сыном, не подбирая учтивых выражений, – Он мяса не ест, молока не пьет… Да ему только накладай. Вот сейчас проспится, скотина, дак только накладай шесть тарелок кряду.
– Ничего мне не надо, – угрюмо повторил Артём. – Мне бы соленого огурца, корку хлеба и краник с вином…
Он нервно закурил новую сигаретку и, по-стариковски шаркая разношенными валенками, побрел в сени.
– Я помру, а ты живи, вот! – басила в спину ему старуха. – Пашечкина хоть собаки да кошачки обвыли. А тебя никто не оплачет…
– Дура…
Грохнула дверь. Старуха, сбитая с мысли, тупо жевала губами, смотрела на меня диковатыми, глубоко посаженными глазенками, в которых стояла застарелая боль.
– А мне ведь его жалко, пуще всех, наверное, жальчей, – призналась Анна, понизив голос. – У меня ведь шестеро, и всех жалко, как пальцы на руке. А горемышного-то пуще того жальчей… Ой, с детьми, Павлуша, так тяжело, а без детей плохо. Вот хожу, к земле клонюсь, а как съедутся домой, так на два метра, кажись, вырастаю. И не хожу, а летаю… Он так-то добрый, – вернулась мыслями к Артёму. – Последнее отдаст, с плеч сымет, а отдаст. Егерем работает, ведь ни мясинки в дом не притащит. А сколько, бывало, набьют лося, кабана, целые тракторные телеги. А матери хоть бы на зубок…
Входя в избу, Артём расслышал последние слова; он уже отмяк, чуть подобрел, тяжелые, как у матери, складки на лбу поразгладились, в глазах вытаяла жиденькая синева.
– Не положено, мать. Хочешь, чтобы меня в тюрьму?
– Какую тебе турьму. У хлеба да без крох.
– Не положено. Я при власти… Да и мясо человеку вредно. Так врачи говорят, – ухмыльнулся Артём. – А лесное мясо особенно тяжелое для желудка. Пучит, заворот кишок может быть.
– Ври давай… Коклет бы накрутила иль в печи под сковородой напарила со стыклой. Из кабанятины коклетки сладкие и пахнут хорошо, – сказала Анна жалобно, будто канючила, выманивая у сына милостыньку.
Артём выудил из банки малосольный огурец, отвалил от буханки толстенный ломоть ржанины, ободрал чесночную головку и, опершись локтем о стол, требовательно уставился в мать:
– Ну что, бабка, сама поставишь или вместях искать будем?
– А ты клал, чтобы искать? Ты клал? Ой, дьявол, ой, дьяволина, – распушилась старуха. – Что у вас, у пьяниц, кишки-то – железные? Сдох бы, да закопала бы, отвыла разом, чтобы не мучиться. Все бы на одном дню.
И ни один мускул не дрогнул на лице Гавроша при этих суровых словах. А может быть, умом он и сознавал свою сволочность да и привык к материным заезженным песням, так что и не терзали они лесового, приостывшего, призакоптившегося у походных ночлегов сердца.
«Брухливая бабка? – да, больно ругачая и кусает хуже пчелы? – да», но ведь накипело, до печенок проел старуху проклятым винищем, да и какой матери хочется, чтобы ее сын, ее кровиночка, вовсе сошел с катушек и потерял себя. Разве для того растила, разве для такой доли недосыпала и недоедала, горбатилась до последнего дня, до кладбищенской насыпушки.
Может, подобного и не думал Гаврош, это я за него домыслил. Но я видел, что разговор привычно втягивался по спирали в новый круг, слегка меняя краски, притухал и вновь распалялся до жаркого пламени и так мог тянуться до позднего вечера, пока у кого-то из тяжущихся не сдадут нервы. Бутылка жгла мою пазуху, хотя давно отпотела под рубахой, и казалась ворованной. Я догадывался, что Гаврош расчуял про нее, но не мог подавить в себе странной врожденной деликатности и прямо напомнить о вине. Это мать можно терзать и мучить, на то она и мать, чтобы снимать с нее последнюю стружку, выпивать последнюю кровцу.
А Павел Петрович – человек ученый, птица высокого полета, с ним знаются в столице люди знаменитые, кого часто показывают по «телеку». Однажды со мною, как с духовидцем, был разговор на экране, на всю страну показали. Ну был и был, мало ли кому подфартит шатия-братия, оседлавшая эфир, видимо, ей почудилось, что я близок к Спасителю и при случае могу поручиться за пройдоху Клямкина, что вел со мною разговор, и выцыганить ему теплого местечка в раю на халяву. Ну, приехал в Жабки. И первый же встречный, а то был Иван Длинный, говорит, радостно осклабясь: «А я тебя по ящику видел». – «Ну и ладно… чего там», – смутился я. А мужик приблизился ко мне вплотную и спросил шепотом: «И много ты денег на лапу кинул?» – «Да ты что, какие деньги». Но по блудливой улыбке Ивана Длинного я понял, что тот не поверил, дескать, нынче не подмажешь – не поедешь.
– Чего ты к матери пристал? Не гневи Бога, Артемон. Душу готов вытряхнуть за бутылку. Проспись давай, больше не пей и станешь человеком, – сказал я с неожиданным раздражением.
Словесная толкотня надоела, да и досадная мысль угнетала, что вот надо сейчас бездельно идти к Зулусу и выручать этого обормота, у которого голова ломтём. А чего его выручать, если он сам в бездну стремится, безумный. Был бы какой толк.
Артём не обиделся на меня, но клейкая ироническая улыбка искривила рот.
– Ты за меня, Паша, не боись. У меня все схвачено. Бог меня без помощи не оставит. Бог меня пасет.
– Богу нет дела до тебя, если в тебе нет божеского…
– Он во младенях еще с горшка упал и лоб расшиб, бестолковый, – подала голос мать. – И чего с Зулусом связался, злыдня. Он с тобой чикаться не станет, он тебе рога обломает, синепупый. Иди нынче же к нему и мирися, пока живой.
– Чего-чего? – поднялся на дыбки Артём или сделал лишь вид, что восшумел, ибо сам как-то неуловимо съежился и даже не сдвинулся от стола, будто прикипелый. – Я тут хозяин: и судья, и закон. Зулус еще не знает, с кем связался. Он у меня на цирлах ходить будет.
Артём неожиданно поперхнулся, закашлялся, слюнявый бычок, прилипший к губе, выкинул в окно и тут же выщелкнул из пачки свежачка.
– Вот курилка, кадит табачиной целый день без передыха, и никакая гнетея не придавит.
– Худой мир лучше доброй ссоры. Замирись – и дело