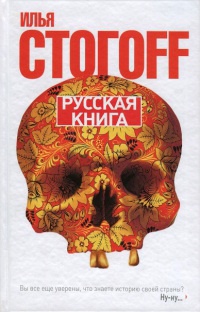– Но в этом-то все и дело. Уже восемь лет прошло с тех пор, как «Даблдей» издали «Мемуары округа Геката» Уилсона; шесть – с тех пор как Верховный суд приостановил действие акта о непристойности. Нравы меняются. Наступило время еще для одной проверки.
– Но что, если ты не прав? Что, если нравы изменились, но не настолько?
– Меня это тоже вполне устроит. Проиграть я никак не могу. Либо изданием этой книги мы пробьем серьезную брешь в законах о цензуре, либо нам придется иметь дело с нашествием полицейских, науськанных Американским легионом. Именно это случилось с «Рэндом Хаус» пару лет назад. Из-за стихотворного сборника. Я даже название не помню, но никогда еще поэзия не продавалась так хорошо, как тот сборник, стоило только просочиться слухам об обыске. Но я хотел узнать твое мнение об этой книге, а юридическая справка мне не нужна.
– Книга великолепна, признаю. Но даже если отвлечься от сексуальных сцен, описания войны там достаточно брутальные.
Хорас продолжал пристально смотреть на нее. Никогда еще Шарлотт не видела у него такого холодного взгляда.
– Мне кажется, ты имела в виду другое слово. «Честные». Но это не подведет книгу под цензуру. Насилие их не оскорбляет. Только секс и борьба за социальную справедливость – вот это пробирает их до печенок.
– Так ты собираешься это напечатать?
– Конечно, я собираюсь это напечатать. Я и так был в этом почти уверен, но твое «великолепно» довершило дело. – Он направил коляску к выходу, но у двери обернулся: – Можешь вернуться к своему письму. Уж не знаю, что там, но, судя по тому, как быстро ты сунула его под пресс, и по виноватому выражению у тебя на лице, там кое-что поскандальнее этого романа.
* * *
Он и сам не знает, зачем ее дразнит, думал Хорас на обратном пути к себе в кабинет. Нет, неправда. Он прекрасно знал, зачем ее дразнит. Он пытался как-то разрядить обстановку. Он и понятия не имел, что там, в этом письме, которое она сунула под пресс-папье, или кто его написал, но было ясно одно: письмо дико ее напугало. У Ханны имелось выражение насчет самых ее хрупких пациентов: «у него (или у нее) винтики плохо затянуты», и в конце концов результат был один и тот же – плохо затянутые винтики окончательно разбалтывались. Так вот, у Шарлотт они были затянуты чересчур туго. А у затянутых чересчур срывало резьбу. Шарлотт принадлежала к числу последних. Он знал, потому что это состояние было ему знакомо – и слишком хорошо.
* * *
После того как Хорас укатил из ее кабинета, перечитывать письмо Шарлотт не стала. Она сидела и думала про книгу, которую он собирался опубликовать. Другие издательства не хотели с ней связываться, потому что им не нравилось лезть в драку. А у него просто руки чесались. Если путь на реальный ринг был ему заказан, значит, он будет бороться за принципы. Но у нее было чувство, что все не так просто. Военные сцены, как она и говорила Хорасу, были брутальными, и дело не только в крови и кишках – не только в физических страданиях, но и в психологической атмосфере. Войны она никогда не видала, но ей пришлось стать свидетелем облав, жестокостей и – однажды – как нацистский офицер поливал толпу из пулемета просто ради развлечения. Ей приходилось наблюдать жажду крови. И именно об этом была книга, которую он твердо решил опубликовать.
* * *
В этот раз она не обманулась. Та же самая пациентка стояла перед зеркалом на черно-белом полу холла, поправляя шляпку, – это была другая шляпка, с букетиком весенних цветов, – но и только. Просто еще одна Ханнина пациентка прихорашивается перед зеркалом, а вовсе никакая не консьержка с воображаемым пистолетом у виска. Женщина обернулась к Шарлотт и кивнула. За прожитые здесь годы Шарлотт успела заметить, что кто-то из пациентов Ханны признавал ее присутствие, когда они встречались в холле, а другие отводили глаза и старались проскользнуть мимо, будто она застала их за чем-то нехорошим. Но в последнее время один молодой человек иногда останавливался с ней поболтать, хотя недавно она узнала, что он никакой не пациент, а психоаналитик, ученик Ханны. Шарлотт кивнула женщине и начала подниматься по лестнице.
Виви валялась на диване – коричневые «оксфорды» рядом на полу, ноги в темно-синих гольфах до колен задраны на подлокотник. Телефон, всегда стоявший на столике в углу, она перетащила поближе к себе. При виде этой картины Шарлотт замерла в дверях. Когда ей было столько же, сколько Виви сейчас, она никогда бы не осмелилась валяться на диванах – будь то семейная гостиная, будуар матери, кабинет отца, да и где бы то ни было еще. Родители бы такого просто не потерпели. А единственный телефон в квартире на рю Вожирар висел на стене и предназначался для важных взрослых дел, а не для девчачьей болтовни. Но она была не ее родители, и в особенности она была не ее мать; Нью-Йорк 1954 года не был Парижем 1932-го, и в тот день, когда она шла по сходням «Ле Авра», крепко держа за ручку Виви, потому что ребенку так легко скользнуть под поручни и упасть с этой головокружительной высоты прямо в черную, кипящую у борта воду, она решила, что они станут американками. Париж оставался позади. Ничто не связывало их с Францией.
Она чмокнула Виви в лоб, повесила пальто в шкаф и прошла к себе – избавиться от каблуков и рабочего костюма. По пути она заметила, что в комнате Виви горит свет, и на секунду заглянула внутрь, чтобы его потушить. Привычка сохранилась у нее со времен Оккупации. Она была просто неспособна не погасить за собой свет, когда выходила из комнаты, или не закрыть кран, или дать чему-то пропасть зря. Она потянулась к выключателю. Тогда-то она это и увидела. Вырезка лежала у Виви на столе, среди учебников. Из заголовка на виду было только одно слово: «Освенцим».
Шарлотт гордилась тем, что уважает личные границы дочери. Они были слишком близки и, как она опасалась, жили чересчур замкнуто, полагаясь только друг на друга. Поэтому она никогда не заглядывала в дневник Виви в обложке из розовой кожи, который лежал в верхнем ящике тумбочки рядом с кроватью, даже если дочь забывала его спрятать. Она изо всех сил старалась не вслушиваться в те бесконечные беседы, которые Виви вела по телефону с подругами. Даже удерживалась – а это было сложнее всего – и не расспрашивала Виви, о чем они с Ханной разговаривают в те вечера, когда она поздно возвращалась домой и Виви спускалась в нижнюю квартиру, чтобы провести время с Ханной – после школы или за ужином. Но уважать границы – это одно, а закрывать на что-то глаза – совсем другое.
Она отодвинула в сторону учебник, чтобы прочесть заголовок целиком. «Из VI округа[43] в Освенцим». Это оказалось даже хуже, чем она ожидала. «Автор – Симон Блох Галеви», – стояло под заголовком статьи. Внезапно у нее так закружилась голова, что пришлось ухватиться за спинку стула. Ей было известно, что Симон писала об Оккупации. Несколько лет назад Шарлотт перебирала дешевые подержанные книжки на прилавке у «Эргоси» – они были выставлены прямо на улице, а не внутри магазина, как ценные первые издания, – и наткнулась на мемуары Симон. Книгу она взяла осторожно, будто томик мог взорваться у нее в руках, и прочла посвящение: