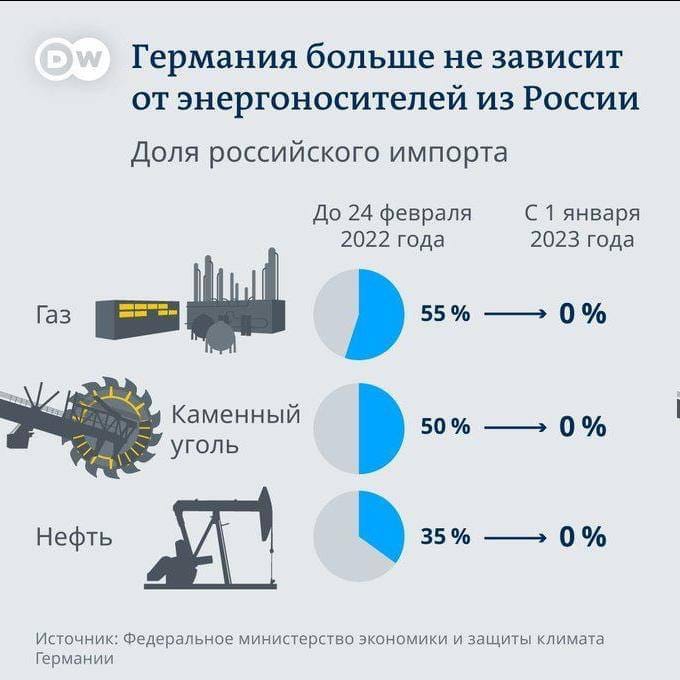Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 159
с русской культурой прошлого, приобщиться к утраченным ценностям, вновь подняться на завоеванные однажды высоты духа. И из всех, пожалуй, пользуется самой большой популярностью и оказывает самое большое влияние Андрей Платонов[115], лишь сегодня, наконец, по заслугам оцененный и признанный, хотя значительная часть его творчества остается не изданной в СССР, и ознакомиться с ней можно лишь в самиздате (а рукопись повести «Путешествие в человечество» утрачена навсегда).
Всякого, кто впервые открывает книгу А. Платонова, уже через несколько строк охватывает недоумение: кто это – чудак или гений? И чем дальше углубляешься в чтение, тем больше растет изумление, словно вступаешь в доселе неведомый и ни на что непохожий мир, загадочность этого писателя делается всё мучительнее и тревожнее. Во всей русской литературе, пожалуй, один лишь Гоголь стоит перед нами такой никем не разгаданной до конца загадкой.
Огромность Андрея Платонова (1899–1951) как писателя очевидна и бесспорна, это один из самых выдающихся русских писателей XX века, но творчество его полно противоречий, а сам его микрокосм, своеобразный, причудливый, странный мир его книг, исполнен глубокой тайны и загадочной значительности. Но если для нас, русских, Платонов велик и загадочен, то для иностранцев он, видимо, просто непонятен. Почти все западные исследователи современной русской литературы уделяют Платонову лишь несколько строк в перечислении, среди прочих авторов, тогда как писателям незначительным и даже просто ничтожным отводится по многу страниц. Л о Гатто, например, в своей «Истории русско-советской литературы» лишь вскользь упоминает Платонова как автора хроники «Впрок» (которая названа почему-то романом) и нескольких рассказов военного времени – самого слабого и незначительного из всего, что написано Платоновым[116]. Бледность и скучное убожество этих последних платоновских рассказов удивительно контрастирует с обычно яркой, сочной плотью прозы Платонова, можно подумать, что ему не хватило профессионализма для того, чтобы овладеть чуждой ему темой (рассказы написаны, в общем-то, по обязанности, в бытность его военным корреспондентом), но в то же время он продемонстрировал уже раньше виртуозное мастерство на материале еще более далеком (историческая повесть «Епифанские шлюзы»).
Такое же впечатление непрофессионализма возникает поначалу и от языка Платонова, корявого, безграмотного языка самородка-самоучки, но при более внимательном чтении замечаешь, что неправильность речи нарочита и продумана, что оригинальный стиль его не так уж спонтанен, как кажется вначале, а тонко разработан, сознательно выработан, хотя в то же время спонтанная естественность и непроизвольность его творчества тоже не подлежит сомнению, так что истинность известного разделения искусства на «наивное» и рассудочное, проделанного в свое время романтиками и в ином обличии бытующего в литературной критике нашего времени, кажется, находит здесь свое опровержение, и приходит мысль о возможности синтеза, казалось, несовместимых начал.
За колоритной фольклорной фактурой угадывается глубоко запрятанное подлинное авторское «я» тонкого психолога и незаурядного мыслителя с цельной философской системой, продуманным мировоззрением и четкой шкалой ценностей. Из фольклорной платоновской стихии вырастает не просто колоритный народный быт, подобный причудливой лубочной картинке, но прорывается вдруг странный, даже химерический, порой сюрреалистический, чуть ли не бредовый образный строй, нелепый, но закономерный в своей странности, призванный не столько поражать и интриговать, сколько раскрывать необычную мировоззренческую концепцию автора. А концепцию эту понять не так просто: рядом с сердечным юмором, жизнелюбивой добротой, трогательной влюбленной ласковостью к каждому человеку, рядом с пантеистическим умилением перед каждым живым существом, каждой былинкой, каждым растением и даже камнем – странная жестокость, безжалостное, как бы отрешенное от мира спокойствие, равнодушие к гибели и смерти. Его герои, уставшие от жизни, часто тяготятся ею и почти жаждут смерти. Противоречива и судьба самого Платонова: сын революции, вышедший из народных низов, воевавший в рядах Красной армии, преданный революции и воспевавший ее, он был отвергнут этой революцией, подвергся гонениям и обреченный на молчание влачил полуголодное существование вне изгнавшего его общества. В его книгах – прославление коммунизма и одновременно злейшая сатира на коммунизм.
Косноязычная крестьянская речь, неправильная и смешная, поначалу просто забавляет. Вот наугад первые попавшиеся фразы: «Люди шли без чувства на лице, готовые неизбежно умереть в обиходе революции». «Из радио и прочего культурного материала мы слышим линию, а щупать нечего. А тут покоится вещество создания и целевая установка партии – маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом». Разыскивая профсоюзного начальника, Жачев («Котлован») приходит в театр: «Жачеву пришлось появиться на представлении, среди тьмы и внимания к каким-то мучающимся на сцене элементам, и громко потребовать Пашкина в буфет, останавливая действие искусства». Сам Платонов в одном месте («Сокровенный человек») говорит о своих персонажах: «Люди грубо выражались на каком-то самодельном языке, сразу обнажая задушевные мысли».
Но этот неправильный «самодельный» язык Платонова по своей выразительной силе не знает себе равных во всей современной русской литературе. Ломая грамматические правила, он по кратчайшей линии устремляется прямо к цели, одним скупым штрихом зримо, свежо являя нам то, на что другому литератору потребовалось бы несколько длинных периодов. В только что процитированной фразе Платонов двумя словами заменяет два придаточных предложения: «среди тьмы и внимания к каким-то мучающимся на сцене элементам» [курсив всюду мой. – Ю.М.].
Приглядываясь к неправильностям платоновского языка, замечаешь, что неправильности эти имеют свою закономерность. В основе их лежит нарушение привычных, устоявшихся логико-грамматических связей, соединение для краткости в одном понятии сразу двух, перемешивание, перепутывание отношений подчинения или последовательности и особенно часто – подмена объекта субъектом (что имеет, как мы увидим потом, глубокую философскую подоплеку):
«Слышен был наслаждающийся скрежет ногтей по закоснелой коже». «Она слышала храпящий сон сторожа». «Наше дело неутомимое». «Ощущал тот тревожный восторг, который имеют дети в ночном лесу: их страх делится пополам со сбывающимся любопытством». «Умные части (машины)». «Чистоплотные руки». «Похохотал умным голосом». «Шел на расправу покорными ногами». «Старик говорил недумающим, рассеянным голосом». «Ребенок гонится на непривычных, опасных ногах». «Грустно опустил свою укрощенную голову». «К нему кто-то громко постучал беспрекословной рукой».
Стихия народного языка, народного говора – питательная почва Платонова. Сын слесаря, сам тоже слесарь и машинист, получивший лишь техническое образование, Андрей Платонов знает просторечье как свой первый, родной язык, литературный же язык для него позднейшее приобретение, в отличие от большинства профессиональных писателей, для которых, наоборот, фольклорная стихия – это предмет исследований. Но когда в речи Платонова корявость и неумелость прорывается как рудиментарный остаток его материнского языка, а где эта шершавость и неправильность умышленна? Понять это очень трудно. Ясно, что язык не выдумывается нарочно, у всех новаторов языка неизбежно бывает что-то искусственное, надуманное, натужное, и если Платонову удалось создать свой оригинальный, неповторимый, колоритный язык, не значит
Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 159