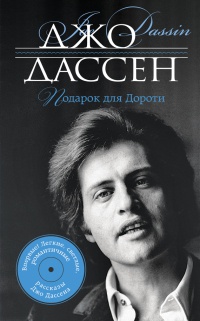Ознакомительная версия. Доступно 43 страниц из 211
6
Кроме Ивана, за смертью отца не обученного местным ремеслам, работников в семье не было, не перепадали сюда и кнышевские четвертаки. Как ни билась Агафья, а под вечерок мыть полы к трактирщику не шла. Близ крещенья, в середине той зимы, Таиска впервые отправилась с сумой по дальним деревням, где не слыхали про Вихровых, причем не просила, сложенной корытцем руки не протягивала, а пела под окошками заученное от прохожих слепцов сказаньице, как на смоченном слезами камне мать точила ножик на деточек, чтоб избавить их от постылой, голодной доли. Много позже, к старости, в откровенную минуту сестра похвасталась однажды брату, будто один прославленный в ту пору на Енге конокрад по пьяной лавочке прослезился на ее песенку. От гордыни или же нежеланья приучать сына к легкому хлебу Агафья не пускала Ивана с сестренкой. До весны держались на Таискины куски с приправой из мякины да коры, что всегда под рукой у нищего. Тогда-то и пришел на помощь деверь Афанасий, почитавший покойного брата как отца: неженатый, угрюмый и набожный, он выглядел еще страшней Матвея, по отзывам земляков, а кротостью будто бы превосходил его вдвое Он-то и отписал невестке, чтобы бросала вдовье пепелище и, подкинув старшенькую одинокой тетке из дальней Бахтармы, привозила бы Ивана в Питер, где открылась ваканция в соседней пекарне: жалованья не сулил, а в том состояла выгода места, чтоб неотлучно состоять при хлебе.
... В ожидании Евпатия все шестеро долго томились на черной, смоленой, красновершенской пристани: кроме тетки, проводить пришли Ивановы приятели, и Демидка все сманивал Ивана идти с ними любоваться на небывалый в том краю лесной пожар; горьковатая гарь свыше недели окутывала окрестность.
— Ганька, братан, из Лошкарева с керосином возвращался... так еле ускакал, — восторженно захлебываясь, рассказывал Демидка. — Огонь за ним гонится, коня под брюхо лапает, так и дерет. Идем давай, до гудка-то разов семь поспеем обернуться, а?
— В Питере у них пожары поди похлеще бывают, — возражал Летягин и по перенятой у взрослых привычке солидно поглаживал место, предназначенное для усов. — Куды ему, еще насмотрится!
Такими они и застыли навсегда в представлении Ивана Матвеича: он рос, учился, скитался по стране, получал ученые степени, сутулясь понемногу, а два босоногих мальца в застиранных рубахах все спорили в сизом падымке, на тускло-зеленом красновершенском бережку.
— Ярочку-то продай, ежели нужда стукнет. Да не обижай сиротку-т, Агапьевна! — уже с борта с поклонами и сквозь гудок прокричала мать.
— И-и, Медведушка, для меня горбатенькая — божья копилка. Из одной плошки станем хлебать, — густым гусиным голосом откликалась Агапьевна, вцепясь, как в добычу, в Таискино плечо.
... От Лошкарева уже бегала чугунка, но дешевле было полдороги добираться водой, а там пересесть на прямой петербургский поезд. Вихровы поместились на обитой железом нижней палубе, среди соляных кулей и бочек с говяжьим салом. Пахло перегретым маслом, прелым тряпьем от лежавшей вповалку голытьбы, а пуще всего, начиная с двадцатой версты, удушливым хвойным дымом. Одетая в зарево лесных пожаров, Россия вступала в двадцатый век.
После небывалой двухмесячной суши синевато-призрачные, под самые облака, столбы двинулись по России, перешагивая реки. Объятое багровой мглой стояло архангельское Поморье, и Висла в своих нижних, замедленных частях текла, подернутая пеплом. Неоглядными косяками чадила сибирская тайга, великая гарь Смоленщины местами смыкалась с гарью Пошехонья, даже на крымском Чатыр-даге чадило что-то. Пылали торфяники, зароды сена, пильные товары на пристанях... никто не знал в точности, сколько, где и отчего горит. В газетах попадалось, будто во Владимире видели бродягу, варившего похлебку на опушке, а в Витебске — лисятника, выжигавшего лису из норы; в Саратове один тамошний барин стрелял перепелов на огонек, служивший им привадой, а близ Чернигова местный лесничий всеобщей бедою прикрывал свои грешки. И за все лето был напечатан лишь один судебный отчет о двух тамбовских мужичках, пустивших петушка в помещичью рощу в отместку за запрещение собирать мох для конопатки. Все это также служило Ивану наглядным пособием к познанию лесов российских, и, надо сказать, природа не щадила себя, повествуя мальцу о преступном людском небрежении.
Грозная по весне Енга обычно слабела к концу лета, но вряд ли когда достигала подобного ничтожества. По опустелой реке пароходишко тащился на ощупь, сквозь молоко сплошного дыма, день и ночь с сигнальными огнями и круглосуточным промером глубины. «Пять, четыре с половиной, пять...» — то и дело раздавалось на носу, и всякий раз с приближением к четверке капитан сатанинским голосом кричал в латунную трубу — убавить ходу; плицы шлепали медленней, под брюхом Евпатия хрустел песок. Сквозь порыжелую дерновину вокруг, там и сям сизыми струйками курилась торфяная подслойка... Когда же фарватер подводил посудину к берегу, команда вперехлест окатывала из ведра пузырившийся борт и надстройки и на чем свет костерила хозяина, приказавшего им этот рейс... Впритирку поползли мимо брошенной беляны, превращенной в плавучий костер, и видели лисицу с обгорелым хвостом, переплывавшую реку. Было бы совсем нехорошо обмелеть в таком пекле, как прошлой ночью в Ногатине, где горящей лесиной с бережка стегануло насмерть одного простоволосого странника в чуйке. Еще накануне, ужасно возбужденный видом пламени, он приставал к пассажирам с разъяснениями, что белесое и курчавое перед очами ихними является не что иное, как дым, а вкрапленный в него багрец и есть самый огонь, плоть от плоти пылания гееннского, причем грешничкам в аду еще пожарче будет! И все это с сладострастной злобой праведника на опечаливших господа людишек... Теперь замолкший знаток загробных дел ехал на корме, лежа, вполглаза поглядывая за Иваном из-под своей рогожи... Мальчику становилось жутко мертвеца; он бочком выбирался наружу и, положив подбородок на перила, безотрывно глядел на охваченное пожаром левобережье.
В сущности, лес жил прежней жизнью... вот ветерком рвануло позолоченные листья с осинника, вот испуганной стайкой вспорхнули красные дрозды, и вслед за ними огненная же белка перескочила на соседнюю запылавшую ветку. Уже тогда в глаза Ивану бросилось странное непротивление бедствию со стороны тех, кого оно касалось. Правда, в памяти уцелела наивная картинка: будто у околицы заброшенного лесного селенья, чем то похожего на Красновершье, цепочкой выстроились старухи с иконами, а ребятишки его возраста, скорей из баловства, чем ради самообороны, еловым лапником сбивают с травы наползающее пламя. Судя по наличию церковного причта, там происходит молебен, причем все голосят что-то, перекрываемое зловещим шелестом из ближнего леска, где пасется смирный пока, словно припутанный огонь... Вот расхрабрившийся попик впереди кропит его крест-накрест свяченою водой, стараясь добрызнуть, и с таким видом — вот мы тебя, дескать, рыжего, вот мы тебя ужо со богородицей!.. И, значит, какая-то капля достигает зверя, потому что в то же мгновенье из глубины — с пальбой падающих стволов, с визгом извергающихся газов — вырывается слепящая бесноватая сила. Она наступает стеной, подгрызая подлесок, отражаясь в прибрежной воде... и как на всякой стенке в рукопашном русском бою, первыми бегут по высохшим кусткам и вереску задиралы, пострелята огня. И вот в восходящем вихре вертится обугленная птица и не может упасть. И вот длинная ель у самой воды с шелестом освобождения одевается в пурпур и присоединяется к большинству.
Ознакомительная версия. Доступно 43 страниц из 211